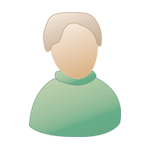Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 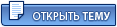 |
 26.1.2010, 1:52 26.1.2010, 1:52
Сообщение
#41
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
В наше время, вероятно, не каждый из тех, кто живет на улице Кузнецкого, помнит или знает, в честь кого получила она свое название. А вот в конце позапрошлого и начале прошлого века имя выдающегося русского хирурга и земского деятеля Петра Васильевича Кузнецкого (1844-1912). Регулярно проводившиеся тогда в Петербурге Всероссийские съезды врачей трижды избирали Кузнецкого товарищем (заместителем) председателя. В 1911 году Русское хирургическое общество имени Н.И. Пирогова избрало его своим почетным членом. А пятнадцатью годами ранее Казанский университет не только удостоил своего бывшего выпускника степени почетного доктора медицины, но и учредил стипендию его имени, которая выплачивалась из средств, собранных к 25-летию службы Кузнецкого в Верхотурском уездном земстве благодарными жителями Тагила. И действительно, волжанин, уроженец города Вольска, что в Саратовской губернии, П.В. Кузнецкий всю свою жизнь связал с горнозаводским Уралом и с центром демидовского округа. В 1871 году Верхотурским уездным земством он был направлен сюда, в Нижний Тагил, чтобы возглавить созданный по соглашению земства с Окружным управлением Демидовых земский врачебный участок при главном заводском госпитале, рассчитанный всего лишь на 10 коек. По рассказам А.П. Чехова и его современников, нам хорошо памятна благородная фигура земского врача, в любую непогоду спешившего по бездорожью на дрожках или крестьянской телеге на помощь больному в отдаленной деревне. "Сокровищем, которому нет ничего подобного в Западной Европе", назвал земскую медицину Ф.Ф. Эрисман, один из основоположников отечественной научной гигиены и санитарного дела. Благодаря земской реформе 1864 года в России была создана система бесплатной медицинской помощи широким слоям населения, прежде всего крестьянству, которая стала дополнением и противовесом как дорогостоящей частной практике, так и не всем доступной ведомственной медицине. Осуществление этой реформы вряд ли было бы возможно без господствовавшей в среде тогдашней разночинной интеллигенции, плотью от плоти которой был и сын священника П.В. Кузнецкий, идеи "возвращения долга народу" и бескорыстного служения ему. Другой, материальной, основой создания земской медицины стала передача земствам налога на недвижимость, позволявшая всем владельцам крестьянских дворов, пахотных наделов, пастбищ, покосов и угодий получать бесплатную медицинскую помощь. В период становления земской медицины средства от налогообложения были еще невелики. Во многом поэтому в первые два десятилетия ее существования возобладали такие тенденции, усердно насаждавшиеся земской дворянской верхушкой, как разъездная система и фельдшеризм. Кроме приема в небольших стационарах и пунктах, служивших "для подания пособий при травматических повреждениях и других скоропостижных случаях", за врачами закреплялись обширные территориальные участки, нередко с радиусом до 100 км, которые им надлежало периодически объезжать. Так, участок, выделенный П.В. Кузнецкому, включал семь волостей: Нижне-Тагильскую, Выйско-Никольскую, Троице-Александровскую, Николо-Павловскую, Лайскую, Черноисточинскую и Покровскую - с населением в 70 268 человек. Естественно, обслуживать такое число жителей одному доктору было не под силу. Поэтому земское руководство настояло на праве самостоятельной практики для земских фельдшеров, как правило, не обладавших достаточной квалификацией. Причем под эту вынужденную меру даже подводилась "теоретическая база": якобы, в противовес доктору -"барскому лекарю", фельдшер, как "лекарь мужицкий" и хорошо знающий народные нужды, легче найдет общий язык с крестьянами. Состоявшийся в 1872 году съезд врачей Пермской губернии решительно высказался против сословного разделения в медицинском обслуживании, за право крестьянства на полноценную врачебную помощь и за создание, в перспективе, стационарных лечебниц с большим числом специалистов разного профиля. Пока же, в условиях разъездной системы, съезд поддержал предложение главного врача Нижнетагильского округа П.В. Рудановского об организации при демидовском госпитале фельдшерской школы с фундаментальной трехгодичной программой, выпускники которой направлялись бы затем как в земские, так и в заводские больницы Верхотурского уезда. Поэтому преподавание в фельдшерской школе стало одним из первых условий приглашения П.В. Кузнецкого в Нижний Тагил. Встреча двух Петров Васильевичей, каждый из которых обладал недюжинным талантом, стала удачей для обоих и привела к многолетнему творческому содружеству. Рука об руку трудились они не только в фельдшерской школе, но и в созданном по инициативе П.В. Рудановского Верхотурском уездном санитарном комитете, на посту председателя которого П.В. Кузнецкий со временем сменил своего старшего товарища, а также в стенах демидовского госпиталя (здание поликлиники Демидовской больницы). Здесь П.В. Кузнецкий, который вошел в историю русской медицины прежде всего как блестящий хирург, за 12 лет, вплоть до открытия в 1884 г., земской больницы на Вые, произвел 1169 больших операций. Здесь же он разработал оригинальную антисептическую методику с применением камфорного спирта, оказавшуюся более эффективной по сравнению с применявшимся ранее методом английского хирурга Листера по орошению воздуха в операционной и обработке ран карболовой кислотой. Камфорным спиртом Кузнецкий промывал и орошал раны, им пропитывал повязки, в том числе и гипсовые, в него погружал инструменты. Благодаря такому методу появилась возможность проводить сложные операции, сопровождавшиеся чревосечением, которые ранее обычно оканчивались смертью больного от перитонита. Так, одним из первых в России П.В. Кузнецкий начал чрезвычайно редкие в то время операции по удалению яичников (овариотомии) и иссечению грыжи. Его доклад IХ Пироговскому съезду русских хирургов обобщил результаты трех тысяч операций грыжеиссечения! Одна из них незадолго до съезда была продемонстрирована им в городе своей университетской юности и стала первой операцией такого рода в Казани. Один из присутствовавших на этом мастер-классе вспоминал, что все врачи были поражены той быстротой, с которой Кузнецкий извлек большой грыжевой мешок. Спиртовой метод антисептики П.В. Кузнецкого особенно зарекомендовал себя при лечении ранений и открытых переломов в годы русско-турецкой кампании 1877-1878 гг., когда его автор возглавил развернутый близ Одессы "выдвижной госпиталь Верхотурского комитета помощи раненым", оснащенный на средства жителей Тагила. А затем и в годы Русско-японской войны, когда Петр Васильевич основал в Тагиле военный лазарет Красного Креста. В ноябре 1884 года, через несколько месяцев после того, как П.В. Кузнецкий отметил свое сорокалетие, наконец завершилось строительство новой земской больницы. Она, как отмечал современник, была выстроена "по его плану и под его руководством". Сейчас постепенно стирается память о трех старых корпусах III городской - бывшей земской больницы, что некогда стояли в самом начале улицы Кузнецкого, носившей прежде название Больничной. Прослужив столетие, эти внушительные двухэтажные здания красного кирпича с мраморными входами, выстроенные на одной линии и объединенные внутри общим коридором, в середине 1980 гг. попали в зону обрушения и на удивление быстро и без всякого сожаления были снесены. Трудно сказать, сколько жителей нашего города и Пригородного района приняли они за сто лет своего существования. Только при жизни П.В. Кузнецкого в них пролечилось около 30 тысяч человек и было сделано около 4 тысяч больших, требующих общего наркоза, и около 172 тысяч малых операций. Все новое, что появлялось в отечественной и международной медицинской практике, очень скоро находило применение в больнице П.В. Кузнецкого. Так, по примеру московской Боткинской больницы, в специально устроенном деревянном корпусе открылось инфекционное отделение. А с 1890 гг., по примеру ведущих клиник, наряду с антисептикой стал применяться асептический метод обеззараживания перевязочного материала, инструментов и белья при помощи термообработки, который рассматривался П.В. Кузнецким как новая эра в хирургии. Двери больницы всегда были широко открыты как для коллег из глубинки, так и для студентов-стажеров и слушательниц Женского медицинского института. К 1911 году под руководством П.В. Кузнецкого ими было выполнено десять серьезных научных работ. Своими лучшими учениками и продолжателями Петр Васильевич по праву считал супругов А.Н. и А.П. Бенедиктовых, В.К. Поленова и своего сына, Дмитрия, впоследствии профессора, крупного специалиста в области урологии. Полная неусыпных трудов и многогранной общественной деятельности, жизнь доктора Кузнецкого завершилась в 1912 году. Чудом сохранившийся снимок запечатлел многотысячную толпу жителей Тагила, провожавших того, кто сохранил здоровье и жизнь многим из них, в последний путь на кладбище в ограде Скорбященского монастыря. Тогда над больничной площадью прозвучали слова надгробной речи священника А. Хохлова, обращенные к покойному: "Да витает твой бессмертный дух в этом больничном здании, в твоем кровном детище, в котором ты был первым работником по уму и врачебному искусству, и по редкой в наши дни трудоспособности и благородству при исполнении долга врача, стоявшего в течение сорока лет во главе всего медицинского мира уральского"! 160 лет со дня рождения П.В. Кузнецкого дают очередной повод задуматься: насколько бережно храним мы память о людях, составивших славу нашего города? И храним ли вообще? Теперь уже вряд ли можно найти точное место стертой с лица земли могилы П.В. Кузнецкого. Но обозначить хотя бы условное место на территории монастыря памятным крестом с именем и перечнем заслуг выдающегося врача и глубоко веровавшего человека, пожалуй, следовало бы. В прежней больнице, главном детище П.В. Кузнецкого, всех входивших встречал его большой портрет. В новом здании, сменившем старые корпуса, к сожалению, уже ничто не напоминает о преемственности традиций. А может быть, имеет смысл не только вернуть портрет основателя в стены созданной им (пусть и "перекочевавшей", в силу объективных причин) больницы, но и самой больнице, наконец, присвоить гордое и незапятнанное имя Петра Васильевича кузнецкого? Светлана КЛАТ, Газета "Тагильский рабочий" |
|
|
|
 29.1.2010, 3:53 29.1.2010, 3:53
Сообщение
#42
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Аввакум Петров и Настасья Марковна: опыт исследования русской семьи XVII в.
В XVII в. Россия все теснее входит в соприкосновение с Западной Европой. В стране происходят значительные социально-экономические изменения. Они касаются и духовной традиции Московской Руси, затрагивают основы религиозно-нравственного мировоззрения людей. Однако данная работа посвящена не зарождению русского старообрядчества (хотя этот процесс напрямую связан с жизнью и деятельностью протопопа Аввакума), вернее не столько этому вопросу, сколько исследованию конкретной семьи, ее быта, уклада, взаимоотношений. Источником для такого исследования служит известное Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, которое дает уникальную возможность увидеть эту самую семью изнутри, сделав, конечно поправку на художественное, даже поэтическое изложение материала. Житие произведение нового типа для русской литературы того периода. Это не жизнеописание святого (себя самого Аввакум святым и праведным не считал, что прекрасно видно из его творений). Мятежный протопоп лишь частично использовал житийную (агиографическую) схему для создания произведения, в центре которого его собственная личность. Субъективизм, присущий Аввакуму, здесь не является недостатком. Личность и личностные отношения, взгляды и понятия, имеющие конкретного автора ценнейшая особенность данного источника. И Аввакум, и Настасья были родом, по свидетельству самого автора Жития, из одного нижегородского села Григорова. По достижении надлежащего возраста будущий протопоп женился, вернее ...изволила мати меня женить, как он сам выражается. Аввакум дает понять, что брак этот был заключен по взаимной склонности сам он бога молил о доброй жене, а Настасья Марковна так и прямо ...моляшеся Богу, да же сочетается за меня совокуплением брачным. Насколько именно такая ситуация была тогда правилом, судить трудно, однако и исключительность этого случая никак не оговаривается и не подчеркивается. Семьи супругов имели примерно равный социальный статус оба сироты, из относительно зажиточных, но обедневших семей (сын священника и дочь кузнеца). Несмотря на традиционный приоритет воли родителей (что есть и проявление воли Божией), который жестко предписывается еще Домостроем, все же дается некоторое место и взаимной симпатии. С молодых лет Аввакум обнаружил дар вдохновенного проповедника и ревнителя о вере. Его горячность в отстаивании истинны и непримиримость ко всякого рода нарушениям правды Божией приводит к тому, что ему достаточно трудно ужиться в определенном обществе и он обречен на постоянные гонения. А вместе с ним и его жена, дети, которые следуют за ним во всех его злоключениях. Первый сын протопопа, Прокопий, даже крещен был в походном порядке, в дороге, так как отец его вскоре после рождения сына был согнан с прихода и вынужден был странствовать. Часто вынуждаемый оставлять семью, Аввакум постоянно болеет сердцем за своих домочадцев: ...неведомо живы, неведомо прибиты! Тут паки горе. Всякое упоминание о жене и детях у протопопа проникнуто особой теплотой. Житие повествует о подвигах не только самого протопопа, но и всей семьи его, а прежде всего жены, которая неизменно следует за неистовым своим мужем. Во время скитаний по Сибири весь груз забот о семье, малолетних детях падает на плечи самого протопопа и его жены у них нет возможности содержать работников, как прежде, и кормиться приходится от собственных трудов. С присущей ему иронией Аввакум описывает свои мытарства, но всегда о своей протопопице говорит с уважением. Однако, любовь к семье и ревность о вере не раз приходят в противоречие в сознании Аввакума. Ему реально был представлен выбор: отказ от своих убеждений и спокойная жизнь с одной стороны, и гонения, лишения и страдания собственные и близких при сохранении чистой (с его точки зрения) совести с другой. И приоритет остается за правдой Божией: А мать и братья (жена и дети А.К.) в земле закопаны сидят. Да што же делать? Быть тому так за Божиею помощию. На том положено, ино мучитца веры ради Христовой. Далее по тексту: ...на меня, бедная, пеняет, говоря: "долго ли муки сея, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до самыя смерти!" Она же, вздохня, отвещала: "добро Петровичь, ино еще побредем". В контексте выбора между мирскими привязанностями и долгом веры показателен следующий эпизод Жития: Опечаляся, сидя, разсуждаю: что сотворю? проповедую ли слово Божие, или скрыюся где? Понеже жена и дети связали меня. И далее, ответ жены: Слыхала я, ты же читал, апостольскую речь: привязался еси жене, не ищи разрешения; егда отрешишися, тогда не ищи жены (Кор. гл. 7, ст.27). Аз тя и з детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие попрежнему!. Таким образом, протопоп, ссылаясь на слова Св. Писания, утверждает приоритет духовного над мирским, ответственности за души над ответственностью за плоть и жизнь. И эта ответственность за своих духовных чад заставляет его идти в мир со словом Божиим. Аввакум и других призывает претерпеть любые мучения ради того, что считает истиной. И собственная семья готова следовать за ним до конца. Конечно, невозможно определить, действительно ли имел место данный эпизод или это художественный прием Аввакума, но факт остается фактом семья следовала за протопопом до самого конца. Кроме того, в этом случае показательна и сама возможность совета с женой, учета ее мнения, причем по жизненно важному вопросу, вопросу о будущем всей семьи. Здесь жена выступает с поддержкой упавшего духом мужа отклик домостроевских представлений о доброй жене. Однако сама возможность учета мнения жены не только в хозяйственных вопросах уже заметно отличает позицию Аввакума от идеала Домостроя. По сути, конечно же, Житие сохраняет основную цель агиографии оно носит поучительный, назидательный характер. В этом смысле и семейные отношения преподносятся скорее как некий образец (образцом, идеалом были и формы отношений, предлагаемые Домостроем). В то же время, Аввакум использует не голые схемы, а реальные жизненные ситуации (возможно, и модели таких ситуаций), что также необходимо учитывать при работе с такого рода источником. В Житии наиболее четко прослеживаются представления, понятия о семейных отношениях, но эти представления и понятия имеют и свою конкретику, они облекаются в плоть и подтверждаются фактами из жизни самого протопопа. Аввакум не упоминает о физическом воздействии как средстве наставления, наказания в отношении жены или детей. Это не значит, что подобные методы им полностью отрицаются. Возможно, они просто отходят на второй план, тогда как в понятиях Домостроя такого рода наказания, хоть и как крайнее средство, но все же необходимое и в ряде случаев обязательное. В Житии представлена немного иная ситуация: И я, пришед, бил их обеих (протопопицу и работницу А.К.) и оскорбил гораздо, от печали согрешил пред Богом и перед ними, то есть действия Аввакума причиной имели именно гнев. Вскоре последовало искреннее раскаяние: Воставше, жену свою сыскал и пред нею стал прощатца со слезами, а сам ей, в землю кланяясь говорю: "согрешил, Настасья Марковна, прости мя, грешнаго!". Данная ситуация представлена именно как исключительная и выходящая за рамки обыденного семейного обихода. Среди духовных детей Аввакума также было немало женщин достаточно вспомнить известную боярыню Морозову. Вообще место и роль женщин в движении старообрядчества, особенно в начальный период, заслуживает отдельного исследования. Быт семьи Аввакума во многом определялся его религиозными воззрениями, ежедневное молитвенное правило не подлежало сокращению ни при каких обстоятельствах. Достаток со временем постоянно изменялся от зажиточного дома соборного протопопа до полунищенского прозябания в сибирской ссылке, а позже и разлучения, заточения в монастырях и острогах. В благоприятные времена в доме жили и по несколько работников и работниц, которые входили в число домочадцев и традиционно являлись одними из составляющих семьи, по крайней мере протопоп проявляет о них едва ли меньшую заботу чем о жене и детях. И все же второй по значимости фигурой в Житии является Настасья Марковна. Аввакум рисует образ доброй жены верной спутницы и помощницы мужу, не покидающей его в самые трудные моменты жизни. В целом, этот образ близок к христианскому, точнее православному идеалу женщины жены. Произведение Аввакума представляет собой произведение в определенной мере назидательного характера. Отсюда следует, что несмотря на представление описываемых событий как реальных, все же имеет место подборка определенных фактов, имеющих, с точки зрения Аввакума, воспитательное значение. С другой стороны, именно в данном контексте раскрываются представления о семье и внутрисемейных отношениях на конкретном примере. Принципиальных отличий в сравнении с более ранними (XVI в.) подобными же представлениями здесь нет. Но все же наблюдается несколько более уважительное отношение к женщине, которое, однако, скорее следует обосновать субъективными причинами, личными обстоятельствами и взглядами самого автора Жития. А. Королев Российский университет дружбы народов |
|
|
|
 1.2.2010, 6:05 1.2.2010, 6:05
Сообщение
#43
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Смерть от царя
Михаил Воротынский был талантливым полководцем, но неудачливым придворным Владимир Волков Судьба уготовила воеводе Михаилу Ивановичу Воротынскому (1513-1573) участь жить в трудное опричное время, когда самая верная служба царю и Отечеству могла вызвать подозрение мнительного государя и, как следствие, не награждалась, а каралась им. Но не служить царевым людям было нельзя – слишком много врагов устремилось тогда на молодое Московское государство. Поэтому, жертвуя жизнью, но не честью, воевода Воротынский прошел многие битвы той эпохи, но погиб не на поле брани, а, увы, под пытками… Кадровый военный Все Воротынские, начиная с удельного князя Ивана Михайловича, в 1493 году перешедшего на сторону великого князя московского Ивана III, были видными и верными русскими полководцами, отличившимися во многих походах и сражениях. Среди них Михаил Иванович Воротынский выделялся своим несомненным даром стратега. В юности он постоянно находился при отце, водившем русские полки против крымцев, казанцев, на литовские города. От него Михаил и перенял так пригодившиеся ему впоследствии воинские знания. О первой самостоятельной службе его становится известно только с 1543 года, когда он уже в тридцатилетнем возрасте был назначен воеводой в небольшой приграничный город Белёв. В последующие годы князь Воротынский наместничал в Калуге, но случай по-настоящему отличиться ему представился лишь во время набега крымского хана Сагиб-Гирея в 1541 году. Тогда орду удалось остановить на окском рубеже. Все переправы на противоположный берег оказались прочно прикрытыми русскими полками и заставами. Тем не менее, Сагиб-Гирей решил прорываться, надеясь на прибывшую с ним турецкую артиллерию. Под прикрытием пушечного огня, татары стали переправляться через реку, но появление новых русских полков вынудило крымского хана прекратить наступление и отойти на прежние позиции. Русская позиция на Оке еще более укрепилась после прибытия большого "наряда" - крупнокалиберных пушек. На следующее утро Сагиб-Гирей, не решаясь начинать чреватое гибелью всей армии сражение, отступил от Оки, решив изменить направление удара. Его войска двинулись на Пронск. Татары вышли к этому городу и начали штурм, подвергнув его сильному артиллерийскому обстрелу. В то время в Пронске находились воеводы Василий Жулебин и Александр Кобяков "не с многими людьми". Тем не менее, одолеть их татары не смогли, русским воинам удалось отстоять город. Тогда крымские мурзы начали переговоры с Жулебиным, предложив ему: "Сдай город – хан покажет милость, а не взявши города, хану прочь не идти". Воевода ответил им: "Божиим велением город ставится, а без Божия веления кто может его взять? Пусть хан немного подождет великого князя воевод, они за ним идут". Сагиб-Гирей стал готовиться к большому штурму, но на следующую ночь, узнав о приближении русского войска, бросив все пушки, начал отходить в степь. В жестком преследовании татар приняли участие Михаил Воротынский и его братья Владимир и Александр. Возвращаясь из этого похода, они прислали в Москву только захваченных "языков" 45 человек. Ближний боярин царя Отличившись в сражении с крымскими татарами, Михаил Иванович Воротынский вновь стал нести службу в пограничных городах, на этот раз на другой опасной границе - казанском рубеже. Дважды полковым командиром русских ратей он участвовал в походах на Среднюю Волгу. Служба его проходила успешно, и в 1551 году Воротынский получил почетный чин "царского слуги". В следующем 1552 году ему довелось сыграть заметную роль в покорении Казанского ханства. Нарушив договор с Москвой, новый казанский царь Едигер-Мухаммед возобновил нападения на приграничные русские земли. Это переполнило чашу терпения Ивана IV. Царь собрал огромное войско для решающего удара по врагу. В походе на Казань вновь участвовал Михаил Воротынский, который фактически командовал Большим полком, официально числясь лишь вторым воеводой этого полка. Во время ожесточенных боев под стенами Казани Михаил Иванович, отражая очередную вылазку неприятеля, был ранен саблей в лицо, однако продолжал руководить сражением и смог отбросить врага. Руководство штурмом города легло на плечи князя Воротынского. Подозревая, что татары узнали о подкопах, проведенных русскими "розмыслами" (военными инженерами) под стены города, воевода настоял на немедленном взрыве заложенных под городские стены пороховых мин и последующей общей атаке на Казань. На рассвете 2 октября 1552 года мины были взорваны, через образовавшиеся проломы в татарскую крепость ворвались русские войска. Однако бои за город затянулись. Только благодаря вводу новых свежих сил сопротивление врага удалось сломить. Все это время в гуще боя находился Михаил Воротынский. После падения татарской столицы он первым сообщил царю о победе. Обращаясь к Ивану IV, воевода сказал: "Радуйся, благочестивый самодержец! Твоим мужеством и счастием победа свершилась: Казань наша, царь ее в твоих руках". Конечно же, победа свершилась в основном "мужеством и счастием" самого Воротынского и его боевых товарищей, но так уж принято было в то время – вся слава присваивалась государю, в поражении же винились, как правило, младшие командиры. Впрочем, Иван Васильевич отдал должное своему воеводе. По государеву соизволению именно ему было поручено водрузить на Царских воротах покоренной Казани православный крест. Вскоре Воротынский стал ближним боярином государя. Первая опала В дальнейшем воевода участвовал в войнах с крымскими и ногайскими татарами. В январе 1558 года разбил в степи войско царевича Мухаммед-Гирея и преследовал его до реки Оскол. В 1562 году на южные "украины" Московского государства напал хан Девлет-Гирей, войско которого выжгло посады и разорило окрестности Мценска, Одоева, Новосиля, Болхова, Черни и Белёва. Активность врага едва не сорвала планы царя по овладению Полоцком, но князю Воротынскому и другим русским воеводам удалось вытеснить крымцев за русские рубежи. Однако царь посчитал, что опасный прорыв татарской конницы связан с таящейся изменой. Подтверждение тому он видел в бегстве за рубеж князя Бельского и возвращении на польскую службу предводителя запорожских казаков князя Вишневецкого. Репрессии не заставили себя ждать. 15 сентября 1562 году в числе других видных князей и бояр в опалу попали братья Михаил и Александр Воротынские. Они были отозваны с южной границы и арестованы, их вотчины царь "взял на себя" (конфисковал). Михаила Ивановича с женой и детьми заточили в тюрьму Кирилло-Белозерского монастыря. И хотя содержание заслуженного воеводы оказалось на этот раз нестрогим, все необходимое ему и его людям в достатке отпускалось из казны, но даже самая золотая клетка все же остается клеткой… Только в мае 1566 года благодаря заступничеству митрополита Афанасия Иван Грозный простил князя Воротынского и пожаловал его чином боярина. Вскоре его богатейший военный опыт вновь был востребован в борьбе с татарами. Лучшие русские войска участвовали в Ливонской войне, пользуясь этим, все более сильные крымские отряды тревожили южные рубежи Руси. Особенно опасная обстановка сложилась в 1570 году. В мае этого года орда хана Девлет-Гирея выступила в поход. Движение крымских войск не осталось незамеченным. Путивльский наместник прислал в Москву сообщение о готовящемся нападении обнаруженного врага. Но гонец лишь ненамного опередил татар, вторгшихся в Рязанскую землю. Весь приграничный край подвергся страшному опустошению. Часть неприятельских разъездных отрядов ("загонов") проникла и в Каширский уезд. В этот грозный час Михаил Воротынский находился сначала в Серпухове, а затем в Коломне. Вскоре русским удалось разгромить один из татарских "загонов" и освободить многих пленников, но опасность повторных крымских нападений сохранялась до конца лета – начала осени 1570 года. Русские разведчики сообщали, что в степи "стоят люди многие крымские", а от табунов их "прыск и ржание великое", что участились нападения татар на пограничных сторожей, писали и о других приготовлениях "крымских людей" к походу на Русь. Сообщения становились все тревожнее. Некоторые разведчики приносили вести, что видели огромное татарское войско, идущее к границе разными дорогами. Дважды в это лето царь выдвигал на "берег" новые подкрепления, сам выезжал туда "искати прямого дела" с врагом. Но крымского нападения не произошло. Тревога, поднятая паническими сообщениями дозорных, улеглась только после приезда из Путивля в Серпухов станичного головы Сумороцкого. Он сообщил царю, что проехал всю степь до устья Айдара, но не обнаружил ни одной татарской сакмы (степных следов). Выявившиеся недостатки в организации станичной и сторожевой службы встревожили русское командование и вынудили его принять должные меры. Оборонительная программа 1 января 1571 года Иван Грозный назначил Воротынского руководить обороной всего южного рубежа. Чтобы успешнее отражать татарские набеги, требовалось изменить всю систему обороны этого участка русской границы. Дабы раз и навсегда решить проблему охраны рубежей, князь собрал в Москву знатоков "польских служб". Получив от них необходимые сведения, подчиненные Воротынскому дьяки составили подробные "росписи" с обозначением расположения сторожевых постов и разъездов, описания действий защитников границы в случае опасности. Так появился знаменитый Боярский приговор о сторожевой и станичной службе 1571 года, на долгие годы определивший порядок организации охраны и обороны южных и юго-восточных границ страны. К сожалению, реализация разработанной в приговоре Воротынского оборонительной программы потребовала времени, которого враг дать не пожелал. В том же 1571 году произошло нашествие на Москву 40-тысячного крымского войска хана Девлет-Гирея. Первоначально он собирался ограничиться набегом на козельские земли и повел войско к верховьям Оки. Форсировав реку, татарская армия стала продвигаться к Болхову и Козельску. Но по дороге хан принял предложение одного из перебежчиков идти к Москве. Изменник сообщил, что царское войско находится у Серпухова и обещал хану провести крымское войско через неохраняемые броды в верховьях реки Жиздры, там, где еще не ходило крымское войско. Этот обходной маневр стал для русских воевод полной неожиданностью. В середине мая 1571 года 40-тысячная татарская армия в районе Перемышля перешла Жиздру и начала обходить расположение стоявшего под Серпуховым опричного войска с тыла, выдвигаясь в направлении Москвы. Внезапной атакой противник разгромил отряд воеводы Волынского. Только тогда Иван IV узнал о прорыве вражеского войска и приближении татар к его стану. Опасаясь за свою жизнь, царь ушел мимо Москвы в Ростов Великий. Земские же воеводы, получив сообщение о начавшемся вторжении, быстрым маршем двинулись из Коломны к Москве, стараясь опередить направлявшуюся туда крымскую армию. 23 мая русские войска подошли к столице, всего лишь на один день опередив спешившие туда же орды Девлет-Гирея. Город в тяжелом бою удалось отстоять. В числе немногих земских воевод защищавших столицу был со своим Передовым полком и Михаил Иванович Воротынский. Затем он попытался организовать преследование уходившего в южные степи неприятеля, но из-за малочисленности своего отряда не смог помешать татарам увести в Крым всех захваченных пленников и уничтожить лежавший на пути отступления город Каширу. Решающая битва Тяжелый урок на время образумил царя, опасавшегося, что крымский хан повторит нападение. Во главе объединенной земской и опричной армии был поставлен Михаил Воротынский, который стал готовить свои полки к решающей битве. Она грянула уже в следующем 1572 году. В шедшем целую неделю (с 26 июля по 3 августа) сражении у Серпухова и Молодях, в 45 верстах от Москвы, русские войска под командованием Михаила Воротынского нанесли тяжелое поражение 120-тысячной армии крымского хана. В плен попал татарский военачальник Дивей-мурза, погибли сыновья Девлет-Гирея и ногайский мурза Теребердей. Сам хан был вынужден буквально бежать от гнавших его московских воинов. Стараясь оторваться от погони, Девлет-Гирей выставил несколько заслонов, которые были уничтожены Воротынским. Из огромной армии, перешедшей в июле 1572 года русскую границу, в Крым вернулось лишь около 20 тысяч человек. Громкая слава Воротынского испугала царя, боявшегося слишком ярких личностей в своем окружении. В 1573 году по ложному доносу одного из слуг воевода был арестован и подвергнут пыткам, в которых принял участие сам Иван Грозный, лично подгребавший раскаленные угли поближе к телу князя Воротынского. Однако желательного для царя самооговора - признания в тайных переговорах с Крымом - от узника добиться не удалось. Тогда воеводу обвинили в колдовстве, желании волхованием "очаровать" царя. В тяжелом состоянии он был отправлен в ссылку на Белоозеро. По дороге от пыточных ран прославленный воин скончался. |
|
|
|
 3.2.2010, 3:55 3.2.2010, 3:55
Сообщение
#44
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Боец армии теней
В Париже ушел из жизни Александр Михайлович Агафонов, чья невероятная жизнь поистине достойна историко-приключенческого романа Николай Черкашин 27.01.2010 В этом году исполняется 90 лет Русского исхода из Крыма в Константинополь и далее по всем странам Европы. Почти одновременно ушли из жизни два старейших участника этой исторической драмы: Анастасия Александровна Ширинская в Бизерте и Александр Михайлович Агафонов (Глянцев) в Париже. О Ширинской написано, снято и сказано – много. А вот об Агафонове стоило бы рассказать подробнее... Нет, на Героя Советского Союза или Российской Федерации он, конечно же, не тянет. Тут другой статут и другое измерение. Но по большому счету он – герой, хотя большую часть жизни прожил с клеймом опасного преступника. Гестапо проштамповало листовку с его портретом грифом "Разыскивается опасный преступник!". Это было в Париже в 1942 году, когда он бежал из-под расстрела. В МГБ он, скорее всего, проходил по разряду "социально опасного элемента", пожизненно невыездного за кордон... Еще бы! Кто и куда выпустил бы его в хрущевско-брежневские времена с такой вот автобиографией, где, как ни смягчай формулировки, но между строк явственно читалось, как сын белого офицера был вывезен в Югославию и там учился в королевском военно-медицинском училище, и как попал в плен к немцам — раненый, и как бежал во Францию и там примкнул к макизарам, бойцам Сопротивления, а там сплошные аресты, побеги от немцев, от американцев... Такая вот темная лошадка. Не зря и в советских лагерях посидел. Даром, что реабилитированный... Его судьбы хватило бы на семерых — на врача, на солдата, на подпольщика, на героя-любовника, на зэка, на учителя, а досталась она ему одному — Александру Михайловичу Агафонову. Он же Глянцев, он же Попович, он же... Кто он, работавший фактически на английскую разведку, будучи немецким военнослужащим, французским подпольщиком, югославским гражданином и русским по рождению? Да, родился он в России, в Крыму под Севастополем в самый разгар гражданской войны. Отец – белый офицер, мать – сестра милосердия. С потоком беженцев Русского исхода семья поручика Агафонова оказалась в Сербии. В Белграде Александр учился в военно-медицинском училище, когда в Югославию вторглись немцы. Для него Великая Отечественная война началась на два месяца раньше, чем в СССР. В апреле 1941 года в рукопашной атаке курсант Агафонов был ранен штыком в бок. Попал в лагерь для военнопленных в лотарингском городке Ремильфинген. Двое местных мальчуганов Жером Мурер и Поль Негло стали готовить побег рослого обаятельного «серба», свободно говорившего на их родном языке. Ребята, рискуя жизнью, снабдили Алекса ученическим компасом, домашней снедью, отцовскими брюками, едва доходившими Агафонову до колен. Но самое главное, они сообщили ему адрес надежного человека, который помог беглецу связаться с патриотами из Сопротивления. Поначалу в подполье Агафонову поручили военную подготовку макизаров – французских партизан. Потом ему, как человеку хорошо знающему немецкий язык, поручили весьма опасное задание: внедриться в трудовую армию Тодта, которая возводила укрепления на Атлантическом валу и вести разведку зенитных батарей. Для этого Агафонову пришлось окончить школу шоферов и надеть немецкий мундир. Его зачислили в транспортный батальон, который развозил стройматериалы по всей линии Атлантического вала. Агафонов из кабины своего грузовика видел многое и самое важное заносил на карту, которая всегда была у него под сиденьем. Однажды он попал в дорожно-транспортное происшествие, полевые жандармы обнаружили в его машине карту, которую он не успел уничтожить. Военно-морской трибунал в городе Нанте приговорил рядового Агафонова к смертной казни. Его товарищи устроили ему побег: в тюремный фургон, который вез Алекса на расстрел, врезался грузовик. В общей суматохе Агафонову удалось выбраться на волю, друзья волокли его под руки – у него были сломаны обе ноги. Его спрятали на чердаке в греческом квартале Нанта. Когда он встал на ноги, снова включился в борьбу. Как человеку, знающему немецкий язык и военные уставы вермахта, ему поручали вести разведку в расположении частей германской армии. Всякий раз это было на грани смертельного риска. Он работал под ефрейтора, который после госпиталя получил небольшой отпуск. Ездил в пассажирских вагонах, прислушиваясь к разговорам и даже вступая в них. Делал выводы. В Париже, на вокзале Гар дю Нор он попал в облаву. Фельджандармы проверяли документы, которых у него не было. И вдруг — носильщик с тележкой. — Слушай, друг, — обратился он к нему. Тот вытаращил глаза: солдат в ненавистной оккупантской форме говорил по-французски как завзятый парижанин. — Я дезертир. Мне нужно выйти отсюда незаметно. — Нет проблем, месье! Следуйте за мной. Рослый ефрейтор деловито зашагал за своим чемоданом, который уезжал на тележке носильщика в противоположную облаве сторону. Носильщик знал на Нор дю Гар все ходы и выходы... И все же он попал в лапы гестапо. Дочь хозяина отеля, в котором он снимал номер и в которую он был влюблен, предложила ему не уезжать вечером по делам, а провести ночь любви в отеле. Утром нагрянула облава. Полиция нашла под кроватью Алекса комплект обмундирования немецкого солдата. Агафонов оказался в самой страшной гестаповской тюрьме «Фрэн». Он сидел в одной камере вместе с подпольщиком Морисом Монте. Оттуда был только один путь – в лагерь смерти Бухенвальд. В Бухенвальде, узнав, что у него медицинское образование, определили его на время санитаром в ревир. Потом врачи подменили номер на умершем больном, труп отправился в крематорий, а Агафонов остался санитаром-переводчиком, поскольку знал не только французский и немецкий, но и сербский, и польский, не говоря уже о русском. В Бухенвальде он встретил Победу. Однако ворота лагеря смерти открылись для него не сразу. Бараки лагеря заполнили пленные немецкие офицеры. Новая советская администрация лагеря поручила Агафонову вести среди бывших гитлеровцев агитационную и культурную работу. Потом его пригласили в «Смерш» и предложили работать осведомителем среди своих бывших соратников по Сопротивлению во Франции. Агафонов отказался. Тогда его, как перемещенное лицо, переместили еще дальше - на Север – в республику Коми, строить Шекснинскую ГЭС. Здесь назначили лагерным фельдшером. Уголовники проиграли его в карты и ночью пришли к двери медпункта. Постучали, сказали, что в бараке погибает больной... Агафонов, предупрежденный об опасности, все же открыл дверь со словами: "Я знаю, зачем вы пришли... Но долг медика велит мне идти к больному". За смелость его "простили"... Четвертый смертный приговор ему вынесли по представлению администрации лагеря. Начальник лагеря приревновал свою жену к статному и красивому фельдшеру. Быстро состряпали дело «по измене Родине по вновь открывшимся обстоятельствам», и Агафонов оказался в камере смертников. Чтобы оттянуть срок расстрела, он решил раскрыть "тайны английской разведки" и сочинил весьма правдоподобную легенду о новом, неведомом на Лубянке, разведцентре под Лондоном, где он якобы прошел подготовку. Его сразу же увезли на Лубянку выяснять, что и как. И уж потом, когда обман раскрылся, расстреливать все же не стали. Выслали на поселение. А в годы оттепели реабилитировали. Агафонову удалось закончить филфак Одесского университета (романо-германское отделение). Но преподавать языки не разрешили. Идеологическая работа! А вот учителем труда – пожалуйста. Какой переполох поднялся в крымском КГБ (и в киевском, и в союзном тоже), когда глава внешней разведки Франции Морис Монте вдруг пригласил в гости ничем не приметного учителя труда в сельской школе под Севастополем! Кто же знал, что они оба сидели когда-то в одной камере гестаповской тюрьмы. Советские компетентные органы настоятельно рекомендовали Агафонову отказаться под благовидным предлогом от поездки в Париж, а пригласить самому главного разведчика Франции не в севастопольскую Любимовку, конечно, а в Ялту. Так и пришлось поступить. Французский друг по подпольной борьбе, сделавший столь крупную карьеру после войны, все-таки приехал, и они встретились, как старые друзья, не обращая внимания на рой окружавших их комитетчиков... Прошло полжизни — сорок с лишним лет, — и вот соратники по борьбе с фашизмом нашли друг друга. Можно только догадываться, с какими чувствами ехал Агафонов в Париж, где его встречали оба бывших «сопротивленца в коротких штанишках". На перроне Гар дю Нор его радостно обняли двое седоватых мужчин — шахтер Жером Мурер и бухгалтер Поль Негло. Они вручили ему маленький компас, почти такой же, какой принесли когда-то за колючую проволоку... Лотарингские гавроши стали отцами семейств, обзавелись домами, машинами... Агафонов не из породы завистников. Но, думаю, живя у своих французских друзей, ему все же приходили грустные мысли о собственном житейском неустройстве. В 70 лет человек вольно или невольно подводит кое-какие итоги... В последние советские годы Агафонов жил в доме, выстроенном в Колпино военнопленными немцами (есть в том своя справедливость!) на 5-м этаже, без лифта. Ему слишком везло на войне. Этого везения на личную жизнь не хватило. Спал по-походному — на диванчике; из личного имущества более-менее ценного разве что шкаф с бумагами да кассетный магнитофон, подаренный французами с записями песен боевого подполья. Был у него еще старенький ундервуд, на котором он отстучал 900 страниц книги по просьбе французского издательства "Мессадор". Книги о борцах-антифашистах, о своей необычной жизни. У книги этой такая же трудная история, как и у автора... Агафонов, впрочем, жил не сетуя, не падая духом. Как ни странно, но больше всего для него сделали те, против кого он воевал, — немцы. Мемуары Агафонова вышли в Берлине на немецком языке. Правда, не под родным названием — "Записки бойца "армии теней", а более, на взгляд издателей, интригующим — "Записки неисправимого дезертира". Обидно — он никогда не был дезертиром, беглецом — да. Но ведь это не одно и то же. Ну да ладно, главное — вышла книга. Конечно, и в России у него было много друзей. Мы пытались помочь ему получить удостоверение "Участник Великой Отечественной войны". Но по всем чиновным закавыкам он был участником Второй мировой, а не Великой Отечественной, и в военном билете какой-то военкоматский чиновник недрогнувшей рукой вписал в графе "бои и походы" — "не участвовал" и еще оскорбительное в своей нелепости — "рядовой необученный". Это он-то, обучавший молодых макизаров, как стрелять из всех видов стрелкового оружия, метать гранаты и ставить мины, — "необученный"? О нем писали статьи в газеты и снимали телесюжеты. В свое время вместе с писателем Валентином Ерашовым мы направили слезное письмо начальнику Главного политуправления СА и ВМФ генерал-полковнику Лизичеву. "Помогите, разберитесь, исправьте..." Куда там! В Главпуре было виднее, кто участник, а кто не участник. Лишь в конце «перестроечных» лет Агафонова стали выпускать за границу на ветеранские встречи. Августовский путч 91-го застал его во Франции. Решил остаться здесь навсегда, тем более что встретил там свою бывшую возлюбленную - Реми, не беда, что с внуками. Прислал нам покаянное письмо: "Так, мол, и так - невозвращенец". Бог ему судья... Мы переписывались, перезванивались... Он поселился в маленьком городке на границе со Швейцарией. Однажды я приехал в Париж с твердым намерением съездить к нему в Шаркемон. Но знающие люди сказали, его там уже нет. Куда-то съехал. Не судьба... Кто рассчитал вероятность, с какой москвич может случайно встретить в Париже знакомого севастопольца, с которым не виделся много лет? И все-таки я его встретил — в православной церкви на Рю Дарю. Агафонов выходил из храма после обедни. А мне казалось, что он не верит уже ни в Бога, ни в черта, ни в карточный фарт... В Бога — верил. Вот уж правда, как во сне. Мы идем с ним по парижским улицам, тем самым, о которых он столько рассказывал, ностальгически пригорюнясь за кружкой пива в какой-нибудь колпинской "забегаловке". Мы идем мимо его бывших засад, конспиративных квартир, сквозь растворившиеся во времени цепи облав, патрулей. Все пули давно уже пролетели мимо, все документы давно проверены... И никому на этих улицах уже нет дела до рослого седого русского старика, который еще не разучился улыбаться озорно и весело. И я смотрел на него с недоумением: неужели он вышел из всех своих бухенвальдов, чтобы сегодня брести вот так неприкаянно по городу, в котором до тебя нет дела? Перед нами - о, Боже! — бульвар Севастополь. Город, где мы свели с Агафоновым дружбу. ...Ему чертовски везло в любви, но обратной стороной этого везенья были смертные приговоры. И все-таки в это невозможно поверить — мы идем по Парижу, как когда-то хаживали по Севастополю, Москве, Питеру... Жизнь неуловимого Алекса разворачивалась и на моих глазах, она читалась как ненаписанный роман. За те двадцать лет, что мы были знакомы, он переехал из Севастополя под Ленинград в Колпино, затем уехал во Францию и поселился у подруги боевой юности — Реми, затем узнал, что это именно она выдала его в гестапо, и перебрался в Монморанси, в русский старческий приют, где доживала свой век белая гвардия. На гонорар за изданную немцами книгу он купил себе простенький компьютер и подержанный дизельный автомобиль... Можно считать, что связь с внешним миром была восстановлена. И связь с Родиной – тоже. В Санкт-Петербурге вышла его книга на русском языке «Боец армии теней». А в прошлом году в родном Севастополе был издан его второй документальный роман «На краю бездны». Так замкнулся круг его фантастической жизни. Он прожил 90 лет, несмотря на все жесточайшие испытания, несмотря на четыре смертных приговора! Он умер под Парижем в приюте Сен Женевьев де Буа и погребен на знаменитом кладбище Русского Исхода. |
|
|
|
 5.2.2010, 4:15 5.2.2010, 4:15
Сообщение
#45
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Мемуары секретной агентки российских императоров
Тайная политическая история России до сих пор изучена крайне слабо. Многие важнейшие документы, относящиеся к тем или иным закулисным событиям, надежно упрятаны в архивах. Это касается и воспоминаний Анны де Пальмье, секретной осведомительницы императрицы Екатерины II и императора Александра I. Дамы, которой выпало стать наблюдателем и участником драматических событий конца XVIII — начала XIX столетия. В ее жизнеописании много неясного и загадочного. Даже происхождение мемуаристки умело зашифровано, и убедительный ключ к шифру полуторавековой давности пока не найден. Кто был ее отцом — доподлинно не известно. Судя по мемуарам, тот происходил из знатной французской фамилии и занимал видные посты на русской службе. Однако такого сановника нет в придворных календарях и некоторых других справочниках. Интересную гипотезу на сей счет предложил дореволюционный историк Е. Шумигорский, в руки коего давным-давно попала рукопись Анны де Пальмье. На первой странице мемуаров тот сделал запись: «По всей вероятности, автор этой записки — побочная дочь Ивана Перфильевича Елагина († 1796), статс-секретаря Императрицы Екатерины II, писателя и масона. Е. Шумигорский». Ему, правда, возражал другой ученый, Б. Модзалевский, позднее также ознакомившийся с рукописными мемуарами. Чуть ниже записи Шумигорского он указал: «Но почему же на л. 5 сказано, что отец автора † 31 марта 1794 г.? Б. Модзалевский». Надо отметить, что по некоторым авторитетным сведениям Елагин скончался именно в 1794 году (но не в марте, а в сентябре). Иные факты косвенно и впрямь указывают на отцовство Елагина. Так, современники утверждали, что он был честен и искренно предан императрице Екатерине II, «чуждался придворных интриг». По службе — гофмейстерской или «при собственных Ея Императорского Величества делах и у принятия челобитен» — постоянно общался и сблизился с графом А. А. Безбородко, коему было суждено сыграть столь значительную роль в судьбе юной Анны де Пальмье. Кроме того, известно, что «Елагин, будучи человеком умным и благонамеренным, при всем том считался большим поклонником прекрасного пола». Наличие супруги и официального потомства не мешало ему иметь постоянные вызывающие связи, широко обсуждавшиеся в петербургском высшем свете. Ведала о похождениях сановника и императрица. Не исключено, что и Анна появилась на свет в итоге одного из амурных приключений Елагина. Следуя обычаям того времени и круга, она могла быть отдана на воспитание в семью некоего француза-эмигранта. Разумеется, это лишь осторожная гипотеза, нуждающаяся в дальнейшей проверке. Но как бы то ни было, наша героиня — все-таки не удачливое создание талантливого мистификатора, коих было всегда немало на Руси, а реальное действующее лицо отечественной истории. В одном из архивов обнаружены ее секретные донесения. Стараниями калужских краеведов установлено, что тайная агентка после многих мытарств проживала в данной губернии и даже открыла там собственный пансион. К сожалению, ее дальнейшие следы теряются... Мемуары Анны де Пальмье — интересный памятник культуры. Они явно ориентированы на литературные образцы той эпохи, и многие сведения, сообщенные мемуаристкой, скорее всего, гиперболизированы. Иные события представляются маловероятными, хотя опровергнуть их затруднительно. Но многое весьма ценно в этом документе. И в первую очередь ценна возникающая из небытия Анна де Пальмье — одаренная женщина с государственным умом. И последнее предуведомление. Придет время, и будут опубликованы секретные донесения тайной агентки. Будет опубликован и французский вариант ее записок — гораздо более обширный, содержащий множество новых подробностей о ее судьбе. 14 Анна де Пальмье Сокращенная выписка из тайной записке моей жизни с 1794 по 1808 год Читатель увидит и разберет, а разобрав и взвеся мои дела, пускай наимянует меня какою изволит. Предисловие С ошибками совремянников моих не уживается и совершеннейший человек — то могу ли я оскорблятся, что предрассудки, оскорбления и клеветы устремились на меня? — Но как терзания совести меня не преследует, то бросаю оные подобно тяжелому сну и забываю их. Зерцало Истины и Правосудия, переходя из рук в руки, наконец... вовсе разбилось; и только тот может отыскать ея обломки и, соединя их, привесть в совершенную целость, кто не страшится злодеев, гордящихся своими преступлениями и своим могуществом — тот и имеет твердость духа и благородное презрение к бедствиям; а кто боролся с самыми трудными обстоятельствами, тот уже слабыя свободно одолеет. Dulce ét decórum est pro virtutas mori1. Введение Вопрос. Для чего один глупой, а другой с подлою душою человек, и оба, рожденные для забвения, светозарны, тогда когда умной и добродетельной человек проводит дни жизни своей в тьме? Ответ. Для слов, как для людей, есть жребий роковой; Случай играет их судьбой. Он — их судия, они — его созданье. Захочет — и в чести; велит — они в изгнанье. Неистовый тиран; но свят его закон. Сие значит, что добродетель, дарования и заслуги, которые, кажется, должны бы быть единственными ходатаями — но между тем должны уступить место проискам кичливых, которые только тем и занимаются, чтоб подлазить и уловить, которых дело только в том состоит, кто лучше умеет в милость и доверенность ГОСУДАРЯ вкрасться и задружить рабов Его рабов и, ползая мало-помалу, на высоту взобраться! Кто проворнее и гибче, тот скорее пролезет, но знающей цену своей добродетели, удаляется и в забвении остается. Так Двор, наполненной происками, есть такое смешение страстей, в котором и самая премудрость не может разобрать истины. Там в царствовании Государя Императора Александра Перваго всенародная польза почиталась за ничто; уважение особы решило и похвалы и поношения; и сей злосчастной Царь, лжами окруженной, обремененный сомнительностями и недоверчивостию, по большой части из нерешимости своей не выходил инако, как токмо ввергаясь в заблуждение. 15 Сближение Неугасимая лампада чистой философии, основанной на практической добродетели, заставила меня любовию ко всему чистому и прекрасному, страданием освященным, так сказать, союзом его смирением и терпением, созревшим в страдании, не терять никогда и ни в каких обстоятельствах должнаго к себе уважения. Соединя руку с природою и подружившись с нею для преодоления всего того, что кажется неприступным, то и заставила она меня следовать по стезям ея. А тогда гибельной пример и мечтательная приманка славы и величия — ах! истинно пустаго величия — никогда не могло обольстить меня, и я тщательно старалась уклоняться очаровательных уловок тщеславия и гордости... И так я спаслась от пропасти... На все прочии обстоятельства, со дня рождения моего, опустя мрачное покрывало, скажу только то, что ежели я жестоко стражду — то за чужии проступки, за чужии слабости и пороки... Но правота и добродетель как были, так и будут завсегда спутниками моими. 1794 года, марта 31-го дня, оставил меня родитель мой сиротою на 22 году от рождения моего. Изобразить всей той горести, которая причинила мне смерть отца моего, я не в состоянии. А что случилось со мною по прочтении той рукописи, которую по завещанию родителя моего я сей час предала пламяни, было еще ужаснее! Все творение представилось мне в безпорядке!.. Сердце просило, требовало к себе лишившагося родителя. Оно помнило нежныя чувством и благоразумием наполненные наставления его — помнило и велело глазам моим искать его, велело рукам моим к нему простираться... Но тщетно. Един Свидетель и Судья всего того неизъяснимаго впечатления, котораго я тогда чувствовала — был Бог!.. Блаженной памяти Государыня Императрица Екатерина Вторая, до которой дошел слух, что я, после смерти родителя своего, впала в великую меланхолию, прислала ко мне с утешительным увещеванием и советами того самаго человека, которой, по разсказам отца моего, был мне довольно известен, а имянно: обер-гофмаршала своего, князя Барятинского2. Сей гнусной царедворец, сие пресмыкающее творение, изшедшее из самаго Тартара, которой адские знаки возвышения своего носил на правой своей руке3, — старался с отвратительной для меня царедворскою любезностию, которая тогда в глазах моих казалась более насмешкою, утешить меня и склонить на Царскую милость, предложенною мне Великой Екатериною! Но получил от меня наконец следующей ответ: «Князь, выслушав вас до конца и не удивляясь вашей епикурейской философии, то позвольте мне теперь вам откровенно сказать, что вы и все вам подобные, имев души помраченные, не можете понять грусти моей, следственно, не в состоянии и меня уразуметь: итак, оставьте печальную на произвол собственнаго ея счастия и уверьте Ея И. В., что чувствуя в полной мере все Ея ко мне милости, за которыя и приношу Ей сердце, преисполненное наичувствительнейшей благодарностию; но чувствуя себя совершенно не способною жить при Дворе, то и не могу на оное решиться». На сие вышесказанная особа, зделав замечание по-своему, получила от меня опять следующей ответ: «Поверьте, Милостивой Государь, что я все Милости Монархине очень живо чувствую и их ценить умею, — но скажу вам теперь решительно, что только тогда, когда сердце мое превратится в камень, когда огнь чувства чистейшей добродетели угаснет в груди моей, подобно как заря вечерняя угасает на полунощном небе, когда, забыв святую истину, паду я ниц пред златыми кумирами человеческих заблуждений, тогда... Да, тогда только, князь, буду я жить между царедворцами 16 — жить в их удовольствие и быть другом их. Но теперь мы чужды друг другу, и горесть моя не может их тронуть!» В завещании родителя моего было мне имянно приказано удаляться елико возможно от Царскаго Престола, котораго изображал он мне окруженным густейшим туманом зависти и мрачнейшими облаками злобы. Таковое описание устрашило неопытность мою ужаснейшим образом. Однако ж, мало-помалу и в течении года по смерти родителя моего возродилось во мне живейшее желание уверится в сказанном мне отцом моим собственным своим опытом; приближится к царедворцам и в тайне разглядеть сих Хамелеонов. Светлейший князь Безбородко4, бывше тогда еще графом, и неизменный друг родителя моего, коему все тайны известны были и света, умирающему другу своему дал обещание служить сироте его вместо отца и покровителя, в чем и слово свое сдержал. Сей почтеннейшей муж посещал меня часто, и однажды при свидании с ним сказала я ему следующее: «Почтенной мой покровитель, в моих с вами беседами я очень много нужнаго и полезнаго для себя почерпнула, а теперь прошу вас наставить меня в том средстве, чрез которое могу успеть в желаемом мною, а имянно: быть занятой должностию, не быв однако ж в зависимости ни у кого? Желать того, что однажды требовала Дашкова5 от Монархине своей — было бы с моей стороны крайне безрассудно, но между тем ужасные возродились у меня чувства к пользе Монаршей, и в здравом разсудке, но с высшей, кажется, благодати, чтоб можно было мне в оном успеть. Объяснить вам всю обширность познаний и опытности родителя моего в политике и глубокомыслие его не нужно, оно вам довольно известно, и естьли я по младости и неопытности моей не имею ни его обширныя сведения, ни его глубоко мыслия и тонкости ума, то имею, по крайней мере, довольно достаточнаго сведения о некоторой политической части, состоящей в собирании и составлении общенародных мнений. В чем же я найду какое ни на есть недоумение, то верно второй мой отец позволит мне прибегнуть к его советам». «Любезная моя философка (сим имянем называл меня почти всегда князь Безбородко), — сказал мне сей с почтенною и милостивою улыбкою, — я постараюсь при удобном случае поговорить о сем с Императрицею, но я должен вас предупредить, что она на вас в великом неудовольствии, и вам самим причина сего известна. Но я всевозможно постараюсь загладить вашу вину перед Нею... Возьмите несколько терпения, а наипаче будьте молчаливы и не сообщайте никому вашего желания». Через несколько времяни, по возвращению Императрице из Царскаго Села, в сентябре месяце 1794 года, известил меня Безбородко, что поздравляет меня с желаемым успехом, но что Ея И. В. повелела мне заниматься вышесказанной должностию в совершенной сокровенности и доставлять плод трудов моих к нему, Безбородкину, причем и изволила заметить следующее: что «я странная и удивительная молодая особа! Но что ето ничто иное есть, как последствия воспитания и упорства родителя моего не вручить меня, шестилетнюю, Ея воспитанию, а она препоручила бы меня г-же Жибаль» (сия Жибаль была выписана из Парижа самою Императрицею для шести фрейлейн при дворе, которых Она особенно отличала). «Он потерял дочь свою, — продолжала Монархиня, — своим глупым воспитанием. Что он теперь из ней зделал, сообща сей свои странные правила, свое упрямство и свою гордость? Ах, как мне ее жаль! Но, граф, нельзя ли ее склонить войти в супружескую связь? Она вас очень много любит и почитает, вы имеете всю ее доверенность, то постарайтесь на сие склонить сию несчастную. Я имею для нее очень хорошаго и выгоднаго жениха; вы его знаете, граф, ето Грабовский (побочный сын Короля Польскаго)». 17 «Как! — вскрычала я, пылающая негодованием. — Мне замуж итти? Мне иметь мужа, иметь для себя сию лишнюю и пустую мебель? Знаю и чувствую, что, конечно, Императрица имеет причину жалеть обо мне, но отнюдь не о моем воспитании, ни о том, что я есть теперь, ибо я теперь, благодаря Бога, девица честная, какой и завсегда надеюсь остатся. А скажите, второй мой отец, что бы я была при дворе?» — Сей отвечал: «Столь же любезны, но не так добродетельны. Вы бы были лишены сей драгоценной душевной девственности, которая чужда придворным». — «Так скажите мне, о чем же жалеет Императрица? Разве только о том, что я собою не умножила число развращенных, которыя Ея окружают? В самом деле, я всенижайше благодарю Ея о сем участии и твердо уверяю, что мне никогда не быть замужем». — «Для чего же так, милая моя философка, разве вы совершенно возненавидели наш пол?» — возразил почтенной мой покровитель. — «Ах, нет, граф, и я надеюсь, что вы уверены в моем к вам высокопочитании и великой душевной любви... Словом, я так много ценю все ваши редкия достоинства и вашу отличную добродетель, так что естьли б ето только возможно было зделать, то я, приказав с вас снять портрет, приказала бы всем ему молится как образу... А замуж бы за вас никогда не согласилась бы итти, не для того, что вы теперь для меня слишком стары, но для того, что зависимость для меня, какого бы она, впрочем, рода ни была, слишком ужасна по правилам и характеру моему — и вот единая причина моего отвращения к супружеству». «Следственно, — сказал граф, — Императрица права и со всею справедливостию осуждает данное вам родителем вашим не по полу вашему воспитание. Но теперь нечего о сем разсуждать; что зделано, того не возвратить; а извольте лучше начать вашу новую должность и получать за оную жалованье вместо замужества». — «Помилуйте, граф, я никогда и не мыслила служить из жалованья, а только из одной чести: вам небезызвестно, что родитель мой оставил мне 500 000 рублей, что и довольно достаточно будет по гроб мой». — «Ну, философка моя, как вы сие назовете — не гордость ли ето? И вам известно, что у меня такой суммы в двадцать крат более, но я между тем ни отказываюсь от жалованья, да и не смею етого зделать — нам прилично получать и жалованье, и милости от Царей, а им неприлично пользоваться нашими милостями, и вы етим обижаете вашу благодетельницу, что очень нехорошо; итак, я советую вам принять от великой Ея щедроты назначенныя вам ежегодно по 12 000 рублей жалованья и сей подарок, которой Она изволила мне вручить для доставления вам при следующих словах: «Я сердечно желаю, чтоб труды новаго моего слуги (или служителя) столь же полезны и питательны были, как изображенные зерна в сем колосе, однако ж менее блистательны; впрочем, я уверяю ее в всегдашнем моем Царском благоволении и что я ее даже и нехотя люблю». Я была столь смущена и столь разстрогана толикими Монаршими милостями, что тогда истинно стыдясь своему заблуждению, я совершенно осталась безмолвной, и в сем положении оставил меня Граф. Сей великий муж, сей всеобъемлющей гений, который имел редкой дар читать в человеческом сердце и им все управлять совершенно, очень легко усмотрел, что происходило тогда в моем — посему за нужное почел оставить меня в покое, дабы могла я предаться сердечнаму чувству своему и размышлениям моим. По отбытию Графа удалилась я немедленно в свой кабинет, где бросясь в кресла и орошенная потоками слез, обвиняя то себя, то опять оправдывая, — так, что попеременно колеблема была разными чувствованиями, и осталась в сем положении на весь день одна в философическом уединении своем, где я и начала размышлять о новой своей должности и надежнейших средств приступить к ней. 18 Вступила я в оную 1794 года октября 23-го дня, и тогда было мне от роду 22 года и семь месяцов. В течении онаго года успела я доставить Ея И. В. плоды трудов моих, которыя были очень милостиво приняты и одобрены; за которые получила я опять брилиантовые серьги, изображающия грушу. Граф спросил меня, как мне сей подарок нравился. — «Он безподобен, — отвечала я, — но между тем все, что бы я не получила от Монаршей щедроты, не может иначе как быть для меня драгоценною вещию! — однако ж первой для меня ценнее, потому что вынудил меня, войдя в себе, размышлять о том впечатлении, которое он произвел в меня, и сознаться, что я виновница <...>6 столь Милостивейшей и Великодушной Царицы, и вот почему первой подарок любезнее». — «Браво, браво, дочь моя! Позвольте старику обнять вас за сей прекрасный ответ, достойный изящных чувств великой вашей души». Описать здесь все те отличныя милости, коими я пользовалась от сей Премудрой Монархине, столь многочисленны, равномерно и все попечения и благоразумные наставления покойнаго Князя Безбородкина, — что здесь упоминуть об них совершенно не у места, и скажу еще только, что смерть сих двух для меня божественных благотворителей похитила с собою и все мое благо получие. По вступлении на Всероссийской Престол Императора Павла Перваго7, то и сей Монарх не оставил меня без изъявления своей ко мне благосклонности, и в знак оной предложил мне место фрейлине при Дворе. Здесь не должна я умолчать, но сказать в честь сего Государя, что ответ, который Он получил от меня касательно сей предлагаемой мне почести, всякаго инаго вынудил бы наказать <...>8, но напротив того, от сего Великодушнаго Монарха заслужил мне похвалу, которой на мой ответ сказал следующее: «Я в сем ответе узнаю достойнаго и почтеннаго отца ее». Ответ же мой был следующей: «Что я всенижайше благодарю Его И. В. за оказанную мне честь и милость... Чувствую в полной мере и то, что я недостойна ее, да и для сей должности совершенно не урождена и не воспитана, почему и не могу ее занять. Что Государь, которой коротко знавал покойнаго родителя моего, верно согласится, что сей не воспитывал дочь свою для того, чтоб служить украшением Двора, или, лучше сказать: его декорациями; но что я чувствую себя в состоянии быть полезнее в обществе». После сего предложил мне сей Государь в вечное мое владение 800 душ крестьян — и от тех я отказалась, сказав, что я обращаться с крепостными людьми не умею, сельской экономии не понимаю, и что вообще невольников не желаю я у себя иметь. После сего втораго ответа, не сказав мне более ничего, прислал мне сей Монарх 25 000 руб. и просил меня их принять, яко от должника родителя моего, у котораго занимал Великим Князем немалозначительныя суммы, и не платя никогда процентов, то теперь, зделавшись Государем, он чувствует себя обязанным отдать процентные деньги дочери сего почтеннаго мужа. Какая деликатность в сей Монаршей Милости! Ето точная правда, что покойный родитель мой неоднократно ссудил деньгами сего Государя, когда он был еще Великим Князем и когда всем запрещено было не делать Ему доверия даже в пятидесяти рублей. Кратковременное Царствование сего Монарха, сего Отца Народа своего, одушевленный искреннейшею любовию к верноподданным своим, какое чувство проницало все бытие Его! И которое рождало благие намерения... К несчастию, Он их выполнить не мог, и те, которые ищут уязвить деяния сего Монарха и вместе помрачить отравою клеветы благие Его намерения, уподобляются сатане, старающейся чем-нибудь запятнить непорочность Ангела. Он, конечно, яко человек, имел свои слабости и погрешности — но и солнце не без пятен. 19 В Царствовании сего Государя я истинно уподоблялась невидимке, то есть: что я все свои деяния и поступки так располагала, что все мне можно было знать, замечать, даже и предвидеть, не быв сама ни в чем замечена или подозреваема; но оставлена совершенно без должнаго внимания, тем наипаче, что должность моя при Императрице оставалась неизвестною и что только об ней один Безбородко знал, от коего я и в начале Царствования Павла Перваго много получила сведения касательно политических оборотов и ненадежных средств, предпринятых сим Государем для благополучнаго Его Царствования. 1806 года, Блаженной памяти Государь Император Александр Павлович, однажды увидя меня проезжающей верхом мимо Каменнаго острова и того дворца, в котором Он имел свое пребывание, спросил бывшаго тогда при нем Графа Толстаго9, обер-гофмаршала своего, что не знает ли он, кто ета дама и где она живет. — «Не знаю, — отвечал сей, — но вижу ее часто в саду Графа Строганова». — «Так пожалуй, Граф, — сказал Государь, — узнай об ней и где она живет». На другой же день поутру увидела я Толстаго, проезжающаго верхом мимо того дома, в котором я жила на даче Графа Головина, и купленная Государем Александром, которая находится по ту сторону Черной речки, за Строгановским садом. Толстой поклонился мне с великим уважением, чему я немало удивилась, ибо встречаясь до сего со мною, глядел он мне только в глаза. На другой день проезжал он опять мимо моей квартиры, но уже вместе с Государем, который мне наиблагосклоннейше поклонился. Сие заставило меня обратить на сию странность внимание свое — «Что бы ето значило? — думала я. — Знаю, что наш пол заслуживает особенное Монаршеское благоволение, но мне уже 34 года (думала я), и, следственно, здесь что-нибудь да другое кроется». Итак, решилась я выждать конца сей странности. Неделя проходит, и ежедневно в 11-ть часов перед обедом Государь, тогда уже один, проезжал мимо, и все то же и одно приветствие с Его стороны, так что все соседи начали удивляться частой езде Государя по той даче, где пред сим его не видали и что он только с лорнеткой своей устремлял взоры свои на мои окошки10. Начали уже и поговаривать и видя меня, хотя и прежде довольно знали и видали; но уже тогда все глядели на меня с некоторым видом удивления, и стремились к окнам своим, когда я мимо шла или ехала — точно так, как глупая Калужская публика удивлялась моему костюму. Однако ж удивление соседей моих было для меня крайне оскорбительным, ибо я отнюдь не искала того, чего многия из моего пола с толиким стремлением искали, и тогда решилась спустить сторы и не поднимать их до проезда Государя, что я соблюла целую неделю, и Император перестал ездить мимо моих окон, а когда случалось Ему ехать мимо, то не глядел на них, а обратил уже внимание свое на немку, купчиху Бахарахтову, которая жила, не доезжая моей квартиры, — и лучше успел. Однажды, в июле месяце, сидя на лавке в саду Строганова и занимаясь чтением Монтескье, книга, содержащая разсуждение о правах и законах, словом, книга Государственная, то Граф Толстой, котораго я не подозревала быть столь близко меня, стоял уже несколько минут за мною. Но увидев его, встала с своего места и удалилась от него, показав ему вид недовольный. В течении того же месяца случилась мне необходимая надобность по делу моему прибегнуть к правосудию Монарха, почему и писала я к Нему и между прочим открыла я Ему, сколь много была я облагодетельствована Августейшею Бабкою Его и чем я при ней в тайне занималась. И так объяснившись Ему во всем том, в чем только можно было, не упустила я также тронуть некоторыя предварительныя струны, касающееся до благоразумнаго правления, и тех осторожностей, котораго оно требует. Звук сих струн понравился тогда сему Монарху, что я по тому 20 заключаю, что уже на третий день по поданному моему прошению пожаловал ко мне от имяни Государя Граф Толстой с следующим ответом, а имянно: что Государь соизволил разсмотреть мое прошение, по которому я непременно удовлетворена буду. Но между тем усмотря и из онаго великую мою способность быть Ему столь же полезной, как я была в бозе почивающей Любезнейшей Бабке Его, то предлагает мне ту же самую должность и на том же самом положении, что, впрочем, будет уметь достойно изъявлять мне свою Монаршую признательность. Я дала на сие следующий ответ: «Служить Внуку столь Великой Монархине, какова была Императрица Екатерина Вторая, и Монарху, который сам по себе может служить образцем прочим Европейским Государям, считаю я для себя не только величайшею честию, но и священнейшей обязанностию! Но между тем, Граф, к великому моему сожалению, должна я от сего счастия отказаться. Десять лет сряду ничем не занимаясь, как одними своими частными делами, и отставши всесовершенно от политических занятий, то смею ли я теперь приняться за них, когда мне должно будет долго ходить во мраке лабиринта их? Ибо не найду более того покровителя, того путеводителя, котораго имела я в покойном сиятельном Князе Безбородко, и коими советами была я руководима. Тогда же была я еще молода, не знала никакой опасности и не встречала никаких порогов, о коих могла бы я разбиться, ибо и твердо надеялась и на Великую Милость и снисходительность Имп. Екатер. Второй. Но теперь, Граф, мне 34 года от рождения моего...» — «Невозможно», — вскричал Толстой, как с сумашедши, вскочив даже с своего места; пристально глядел на меня и потом сказал: «Разве 22-а, много 23 лет, вы изволите меня урачить; кто поверит, чтоб 34-хлетняя девица могла быть столь свежа, нежна и так хороша?» — «Благодарю вас, Граф, за сие придворное иступление, но позвольте вас спросить, учились ли вы Арифметике? Хотя до вычитания — 10 из 25 остаются, кажется, 15-ть. Так кто тому поверит, чтоб Премудрая Екатерина могла когда-нибудь возложить такую должность, какую я несла, на 15-тилетнюю девицу? Но позвольте мне кончить нужнейшее и вам дать заприметить, что женщина 34-х лет имеет уже довольно степенности в характере, чтоб о всем судить в настоящем виде и, следственно, предвидеть все могущие для нее встретиться разныя неудобства и опасности. К тому ж я должна и в том признаться, что прожив десять лет на свете только простой зрительницею и занимаясь разными отвлеченными науками, то от неумереннаго напряжения умственных способностей, то иступились оне у меня, так что от сего ум мой ныне находится как бы в некотором онемении, почему и ни к чему более себя способной не чувствуя, как продолжать дни жизни моей в покое». — «Вы говорите как Ангел! — отвечал сей Царедворец, — и я бы до завтрего все бы сидел и вам слушал, но между тем я не беру на себя все то пересказать Государю, что от вас слышал. Признаюсь, что не буду уметь всего етого пересказать, почему и покорнейше вас прошу написать ваш ответ Государю, за которым пришлю, когда прикажете». — «Через два часа будет он готов», — сказала я Толстому и раскланялась с ним. В означенное время явился придворной лакей, которому вручен был мой ответ на имя Графа. Государь, по прочтению моего письма к оному Толстому, прислал сего опять ко мне с тем, что Его И. В. не иначе принял мои извинения, как крайными обидами, теми однеми отговорками, кои показывают явственно мое нежелание быть Ему полезною, для того только, как Он мог понять из моих слов, что я опасаюсь вручить ему судьбу мою, но что Он, однако ж, просит меня не обижать Его такой недоверчивостию, а лучше прежде испытать Его справедливость. Что Он тогда надеется, что я останусь ею довольною и удостоверюсь, 21 что я в своем мнении об Нем крайне ошиблась. — «Да будет Воля Его святая, — отвечала я Графу. — Я ей безмолвно повинуюсь». — «Итак, вы согласны?» — «Видя на то желание Монарха моего, не могу иначе принять онаго, как за повеление, против котораго сметь упорствовать было бы очень неблагоразумно с моей стороны. Но позвольте вас спросить, кому будет поручено получать от меня для Государя надлежащии бумаги?» — «Мне, мне, Божество мое!» — Тут осталась я безмолвною и глядя с удивлением на сего дурака, думала про себя: признаться, что сей выбор не обещает мне ничего добраго. «Чему вы удивляетесь и безмолвствуете?» — сказал сей Дон-Кишот. — «Что в ваших летах, Граф, и быв семейным человеком, вы употребляете столь неприличные выражения». — «Да разве вы ими обиделись?» — «Признаюсь, что мало читала романов, почему для меня романической тон крайне не нравится». Тогда сей старый волокита, нахмурив бровь, встал и простился со мною очень сухо. Не видя у себя целой месяц сего Графа, думала я, что все кончилось, и сему внутренно радовалась, ибо крайне не хотелось мне заниматься Государственными делами. Дело мое у Государя молчало, и я думала, что верно уже я и забыта, так как мне теперь о себе напомнить Государю? В сентябре месяце оставила я дачу, а в ноябре решилась я писать к графу, чтоб по крайней мере от него узнать, чему мне надеяться по делу своему. Граф дал в ответ, что он болен и не может ни быть у меня, ни письменно мне отвечать, а ежели мне угодно пожаловать назавтрее к нему в 12-ть часов перед обедом, то может меня принять. Долго колебалась я, ехать ли мне к сей Сатире или нет, и сколько мне сие и неприятно было, но необходимость есть жестокий и всемогущий властелин! Итак, решилась к нему ехать. При входе моем к нему и только что едва успела я сесть, то первой его вопрос был: «Что вы по сие время делали, что еще не доставили ко мне ни одной бумаги, занимались только своим делом — или думаете шутить с Государем?» Признаюсь, что хотя мне тогда уже и 34 года было, но не обыкше к таковому приветствию, кровь у меня взволновалась и, приняв на себя важной вид, с гордостию ему отвечала: «А вы, милостивой Государь, вы где были и что делали, играли шута или волокитствовали? Разве вам Государем не приказано являться ко мне еженедельно и из собственных моих рук получать все бумаги? Желею очень, что зделала честь моим посещением такому человеку, который умеет только обращаться с придворного прислугою. Прощайте, Господин Кастрюлькин, я вас более знать не хочу». Оставя сего пустаго человека в изумлении, возвратилась я домой и написала письмо к Государю следующаго содержания: «Всеподданнейше приношу Вашему И. В. мою нижайшую благодарность за оказанную мне честь и доверие, поручая мне столь значительную должность, от которой я решительно отказываюсь, естьли Вашему И. В. не заблагоразсудится поручить другой особе, кроме Вашего обер-гофмаршала, получать из рук моих известныя Вашему И. В. бумаги, которой, как я сегодня удостоверилась в прежнем моем об нем мнении, что его понятие не может далее простираться его обер-гофмаршалской должности Двора Вашего И. В.» И тут разсказала я все, что между нами произошло с перваго его свидания со мною по сей день. Государь с великим негодованием показал мое письмо Толстому и сказал ему: «Что вы делаете, Граф? Разве вы не понимаете, кого вы перед собою имеете — да кто так обращается с благовоспитанною дамою?» Спустя после сего несколько времяни явился ко мне Александр Николаевич Голицын11, служащей тогда по духовной части, Прокурором в Священном Синоде. Сей Князь сказал мне, что Его И. В. вследствии содержания письма моего соблаговолил 22 назначить его вместо Графа Толстаго и повелел спросить меня, когда и сколько раз в неделю явиться ему, Князю Голицыну, ко мне. «Два раза, — отвечала я ему, — в середу и субботу прошу вас навещать меня». Государь повелел сему Князю 1807 года, когда поехал за границу, все им от меня полученныя конверты отправлять к Его И. В. с особенным Эстафетом. Следственно, кто из сего не заключит, что Государь находил труды мои полезными; и сам Князь в разговоре со мною сказал мне, что Государь крайне желеет, что я не родилась мущиною; а читая однажды одну из моих бумаг Князю, то сей с восхищением сказал, что ничего не может лучше доказать непременную пользу Государства. Когда в 1807 же года, еще до отъезда Государя, в марте месяце, кончила жизнь родительница моя, то Государь, узнав о сем, прислал ко мне нарочно Князя Голицына с изъявлением Царскаго Его соболезнования о сем печальном <...>12. Я уподобляю себя тем несчастным смертным, которые, родившись в час таинственный на колеблющихся весах судьбы, где принимали они счастие и несчастие, которым не благоприятствовали созвездия, коих неприязненное отражение лучей лишили их счастия. Счастие, как известно, своенравно на любимцев своих щедро изливает радости, а у отверженных ею отнимает каждую веселую минуту. Счастие очень редко наделяет добродетельных и достойных людей дарами своими, а непостоянство и слепота его заставляет Философа не дорожить бросками его, разсеянные наудачу, которых люди подлые, ползая и опрокидывая друг друга, ловят с жадностию. Человек, который никогда и ни в каких обстоятельствах не был невольником других, ибо для счастия надобно быть своебытным, надобно производить, а не быть производимым, — то таковой никогда не захочет быть обязан своему счастию той недостойной роле, которая ему не свойственна и противуположна благородному образу мыслей его, как и вообще всему его характеру. Словом, он не захочет заслужить себе одобрения от тех людей, которые поистине по всем отношениям более уподобляются Орангутанам, нежели существам, одаренным разумной душею. Отчего и в кругу их Смесь людей разноцветна, Потерявши толк и ум, В одних злоба лишь приметна, Иной слишком простодум. И пороча честь и имя Страждущей невинности, На себя берут лишь бремя Гнуснейшей коварности. Но кто презирает их ухищрением, Тот идет приличным ему путем И, не страшась их мщения, Остается тверд во всем13. Я женщина в полном смысле этого слова. Предоставляю судить другим, хорошо или плохо поступила природа, разбив форму, по коей я была вылита; что же касается меня, то я понимаю свое сердце, знаю свет, и если я не лучше обитающих в нем, то во всяком случае не похожа на них. Пусть труба Страшного суда прозвучит когда угодно — я предстану перед Верховным Судией со своею рукописью в руках. Я скажу с гордостью: вот что 23 я делала, думала, вот чем я была. С равною прямотою я говорила о хорошем и о плохом. Я не умолчала ни о чем дурном и ничего не приукрасила. Я всегда была такою, какова есть. Я показала душу свою такой, какую Ты само знаешь, о, Верховное Существо! Окружи меня толпою подобных мне, и пусть каждый в свою очередь раскроет свое сердце пред престолом Твоим с той же искренностью, и пусть хоть один осмелится сказать Тебе: я был лучше этой женщины. Я родилась в 1772 году, и рождение мое стало первым несчастием. Не знаю, как отец перенес это горе, но оно всегда его тяготило. В пять лет я свободно читала; исключительные для моего возраста способности пробудили жажду знаний; вкусы мои к 1779 году были необычны для таких лет. Моим излюбленным чтением стал Плутарх; Агезилай, Брут, Аристид были моими любимыми героями. За чадами коронованных особ не ухаживали с таким тщанием, как за мною в юные годы; обожаемая всеми окружающими, я была ребенком всеми обласканным, но, что случается редко, не избалованным. Стать злой я не могла, ибо видела перед собою лишь примеры доброты; вокруг меня были лучшие, наичестнейшие люди. Гордое сердце и неукротимый характер стали первыми движениями души при столкновении с жизнью; годы, опыт и превратности судьбы утишили мою спартанскую резкость и сделали человеком мудрым. Сверх того прибавлю, что если какое-либо воспитание и можно назвать скромным и целомудренным, то, вне всяких сомнений, мое. Окружавшие меня люди были не только исключительно умны, но и обладали сдержанностью, которая уже давно чужда женщинам во всех слоях общества. Мужчины никогда не позволяли себе произнести слово, от коего девушка способна залиться краскою; и в те времена никто и никогда не отказывал ребенку в уважении, приличествующему его возрасту. Подобное воспитание способствует сдерживанию в подростках первых вспышек пламенного темперамента. Имея в повседневной жизни характер мягкий и спокойный, но пылкий, гордый и неукротимый в страстях, руководимая голосом рассудка, всегда воспринимаемая с ласкою, вежливостью, любезностию, я не имела и представления о несправедливости, и прочитав впервые упомянутую рукопись, осознала страх перед теми, кого больше всего любила и уважала. Какое разочарование! Какое смятение чувств! Какое потрясение в сердце, в уме, во всем сознании! Коли возможно, пусть кто-нибудь представит себе это, но я не в силах разбирать и переживать заново то, что произошло со мною. Так кончилась моя безмятежная юность. С тех пор я перестала наслаждаться непомраченным счастием; с нежностию я вспоминаю свои детские годы. Деревня потеряла в моих глазах душевную привлекательность и открытость — она стала пустынной и мрачной, словно покрылась вуалью, сокрывшей ее прелести. Мне она уже не нравилась, и я принудила мать продать ее. Более тридцати шести лет минуло с тех пор, как я покинула ее, и у меня не было на сей счет никаких приятных воспоминаний; но достигнув возраста зрелого и ощутив приближение старости, я познала возрождение воспоминаний привлекательных (тогда как иные истерлись), и с каждым днем в моей памяти все сильнее проступали черты милого прошлого. Чувствуя, что жизнь ускользает, я силюсь воспоминаниями удержать ее. Хорошо понимаю, что читателю нет до этого дела, но мне нужно сообщить ему сие. Осмелюсь ли я поведать ему обо всех забавных маленьких историях той счастливой поры, воспоминая которою я и теперь еще улыбаюсь! Omnia vincit labor improbus14. Ныне я питаю надежду лишь на счастье возыметь доход верный и достаточный для существования. 24 Примечания Печатается по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 1337, оп. 2, ед. хр. 97), с сохранением всех особенностей текста. 1 Сладостно и почетно умереть за добродетель (лат.). Перифраз из «Од» Горация: «Сладостно и почетно умереть за родину». 2 Барятинский Федор Сергеевич (1742—1814) — князь, участник переворота 1762 г. С 1778 года — гофмаршал, с 1796-го — обер-гофмаршал. 3 Смысл фрагмента не ясен. Быть может, имеется в виду какой-либо перстень, полученный князем Барятинским за участие в заговоре? 4 Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — светлейший князь, канцлер Российской империи, один из крупнейших деятелей екатерининского века. 5 Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, статс-дама, президент Санкт-Петербургской Академии Наук и Российской Академии. Упоминая Дашкову, мемуаристка, видимо, подразумевала, что она — тоже особа женского пола — не могла претендовать на столь высокие и «громкие» должности. 6 Угол рукописи оторван. 7 Император Павел I вступил на престол в 1796 году. 8 Угол рукописи оторван. 9 Толстой Николай Александрович (ум. 1816) — граф, обер-гофмаршал. 10 На полях рукописи против рассказа о «частой езде» императора Александра I запись рукою неустановленного лица: «Вранье — девушкам часто грезится, что за ними гоняются мущины. Ничаво не бывало». Маргиналия — по старой орфографии. 11 Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — князь, обер-прокурор Св. Синода, член Государственного Совета, главноначальствующий над Почтовым департаментом. 12 Далее часть рукописи утрачена. 13 На полях рукописи против поэтических строк пробы пера: «на», «и», «Никита» (?) Под стихами — арифметические выкладки: 1772 — 1712 —— 60 и 1830 — 1712 —— 118. Судя по одной из упомянутых дат («1830»), можно предположить, что «Сокращенная выписка» из мемуаров была сделана именно в этом году. Значение другой даты («1712») не ясно. Окончание «Сокращенной выписки» (вслед за стихами) написано по-французски (перевод Н. В. Снытко). 14 Все побеждает упорный труд (лат.). Публикация М. ДАНИЛОВА |
|
|
|
 6.2.2010, 5:45 6.2.2010, 5:45
Сообщение
#46
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Документы русской военной контрразведки в 1812 г.
Разведка в 1812 г. — это новая, еще не известная страница русской военной истории. Несмотря на то, что литература о 1812 г. необозрима, деятельность разведки в этот решающий для России период ускользала от внимания специалистов. Русская военная разведка очень активно начала действовать в Европе с 1810 г., с момента, когда правительственные круги в России ясно осознали близкую вероятность вооруженного конфликта с Империей Наполеона. Благодаря усилиям русских разведчиков военное руководство страны в 1810—1812 гг. имело возможность реально оценить силы своего будущего противника и дать верную оценку его замыслам. Вся разведывательная информация перед войной стекалась в Военное министерство, но по мере приближения начала военных действий стало очевидно, что необходимо непосредственно в армии создать службу контрразведки, так как Военное министерство, находившееся в Петербурге, не сможет в военное время быстро и оперативно использовать получаемую информацию. С 1810 по 1812 г. по инициативе тогдашнего военного министра России генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли проводилось реформирование вооруженных сил. Разработкой реформ занималась созданная при министерстве Комиссия по составлению воинских уставов и уложения. Итогом ее деятельности явились важнейшие законодательные акты, один из которых — «Учреждение для управления Большой действующей армии». На базе трех секретных и неопубликованных дополнений «Учреждения...», подписанных императором Александром I 27 января 1812 г., была впервые на законных основаниях построена организационная структура русской военной контрразведки («Образование вышшей воинской полиции», «Инструкция директору вышшей воинской полиции», «Инструкция Начальнику Главного штаба по управлению вышшей воинской полиции»). В 1812—1815 гг. она действовала под названием «вышшей воинской полиции». В выявленном комплексе документов этой организации термин «вышшая воинская полиция» встречается с некоторыми разночтениями: «вышшая», «высшая», «вышняя», воинская (военная) полиция. Название так до конца и не устоялось, и его написание зависело от писарского произвола. В трех секретных дополнениях к «Учреждению...» отразились тогдашние представления законодателей о ведении разведки в военных условиях. В них был аккумулирован как русский, так и европейский многовековой опыт разведработы. В указанных документах регламентировалось организационное построение военной контрразведки, ее иерархическая структура, очерчивался круг обязанностей сотрудников и агентов, разрабатывались правила, способы и методы работы с агентурой, сбора и передачи сведений. 15 марта 1812 г. эти три секретных документа были отправлены главнокомандующим армиями. Были назначены и директора высшей полиции в каждую армию. Так, в 3-ю Западную армию получил назначение действительный статский советник И. С. Бароцци, хорошо зарекомендовавший себя на разведывательной работе во время Русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Но, прибыв на новое место, он объявил, что имеет от командования Молдавской армии особое поручение к царю. Был отправлен в Петербург и больше в 3-й армии не появлялся*. На должность директора высшей полиции 2-й Западной армии был назначен французский эмигрант подполковник маркиз М.-Л. де Лезер, один из самых активных сотрудников русской разведки на западной границе перед войной. Но прибыл он во 2-ю 51 армию после накала военных действий и занимал свой пост весьма недолго. Несмотря на то что с 1800 г. де Лезер служил в русской армии, участвовал в 17-ти боях с французами, успел получить за это три ордена, после неудачных действий русских войск под Смоленском он, как и многие иностранцы, был заподозрен «в сношениях с неприятелем» и выслан в Пермь*. Фактически и во 2-й и в 3-й армиях контрразведка так и не получила своего организационного оформления. Лишь в 1-й армии высшая полиция, как и предписывалось секретными дополнениями к «Учреждению...», весь период боевых действий имела штат чиновников, канцелярию и директора. Ей же перед войной была подчинена и местная полиция от австрийской границы до Балтики**. На пост директора в марте 1812 г. был назначен Я. И. де Санглен, а с 17 апреля он же стал директором высшей полиции при военном министре***, то есть руководителем всей военной контрразведки в России. Таким образом, высшая полиция 1-й армии, единственная укомплектованная сотрудниками и имевшая начальника, положенного по штату, подменила собой органы 2-й и 3-й армий, существовавшие только на бумаге. Именно поэтому во время войны подчиненные де Санглена посылались для получения разведывательных сведений в районы боевых действий 2-й и 3-й армий, а также отдельных корпусов. Первоначально регламентированная секретным законодательством деятельность контрразведки во время войны претерпела значительные изменения, и не все параграфы, предусмотренные правилами, подписанными царем, были реализованы во время военных событии 1812 г. Поскольку де Санглен находился в 1-й армии как сотрудник Военного министерства, то он стал подчиняться не начальнику Главного штаба, как указывалось в инструкции, а Барклаю, узаконившему доставку всех поступающих сведений лично ему****. Как видно из документов контрразведки, в первый период войны у де Санглена появляются и два ранее не санкционированных секретными дополнениями помощника — П. Ф. Розен и К. Ф. Ланг. Кроме того, надо сказать, что составители***** первых правил для контрразведки не проводили твердых границ между агентами, лазутчиками (нескольких родов), шпионами, «разнощиками писем» и зафиксировали многообразие лиц, которые должны сотрудничать с контрразведкой. На практике границы такой классификации были весьма подвижны и не соблюдались. В начале осени в связи с оставлением поста военного министра Барклаем, сотрудники министерства, находившиеся при нем, покинули театр военных действий. Де Санглен вместе с канцелярией также 2 сентября отправился в Петербург. Директором высшей полиции в армии стал способный контрразведчик П. Ф. Розен. В декабре 1812 г. в армии была введена должность генерал-полицмейстера, на которого возлагались чисто полицейские функции. Это назначение не затронуло контрразведку. «Высшая полиция, — говорилось в предписании М. И. Кутузова, — остается на прежнем своем положении под непосредственным управлением оной надворного советника барона Розена»******. Также необходимо учитывать, что документы получили окончательное оформление лишь в начале 1812 г. Но поскольку в это время даже в высших эшелонах власти не было ясности, где будут происходить будущие военные действия — на заграничной или собственной территории, а в рядах генералитета продолжалась борьба за выбор наступательного или оборонительного плана, то эти колебания нашли отражение и в тексте трех основных публикуемых документов. Можно указать и на другой аспект функционирования высшей полиции. Помимо сбора сведений и борьбы с агентурой противника на нее возлагались и задачи политической полиции: надзор за деятельностью чиновников, местной администрации, а также борьба со злоупотреблением властью и казнокрадством (последнее было особенно распространено среди интендантства и купечества, являвшегося основным поставщиком различной продукции и услуг для армии). Так что в какой-то степени высшая полиция, несмотря на то что в ее деятельности на первый план выступали задачи чисто военные, являлась предшественником 3-го Отделения. Отдельного фонда высшей полиции не сохранилось, хотя таковой и существовал. Документальный комплекс из 143 дел за первую половину 1812 г. в 1816 г. был передан в архив Главного штаба*. Сохранилась отдельная опись с алфавитным указателем встречающихся там фамилий**. В дальнейшем фонды всех разведорганизаций попали в разряд секретных дел, хранившихся в особом кабинете канцелярии Военного министерства вместе с документами, оставшимися после смерти императора Александра I в его кабинете, и «бумагами, отбитыми у неприятеля». С 1856 г. начался разбор секретных дел, который был закончен в 1871 г. Часть малоценных материалов была уничтожена в 1868 г. Из оставшихся 1982 дел к уничтожению было предназначено 303. Неизвестно, какими критериями, санкционируя ликвидацию документов, руководствовались чиновники. Для хранения в Военном министерстве было оставлено 1497 дел, а 182 — были переданы в другие ведомства***. Публикуемые материалы составляют лишь мизерную часть этих секретных дел и относятся к началу организационного оформления русской контрразведки перед войной 1812 г. Комплекс документов хранится в фонде Военно-ученого архива ЦГВИА в «Бумагах, оставшихся после смерти кн. Багратиона» (ед. хр. 517). Оригиналов трех секретных дополнений к «Учреждению...» найти не удалось, но их копии сохранились в нескольких фондах. В то же время только в «Бумагах... Багратиона» все копии содержат и препроводительные документы. И именно здесь были найдены в единственном экземпляре «Присяга для агентов» и «Инструкция Начальнику Главного штаба...». Документы представлены в той последовательности, в какой сохранились в архиве. Документы русской военной контрразведки в 1812 г. 1. Секретно. Господину генералу от инфантерии князю Багратиону от военного министра В дополнение к учреждению управления большой действующей армии, препровождаю при сем для исполнения Высочайше утвержденныя две секретныя инструкции. 53 1я Начальнику Главного штаба по управлению вышшей воинской полиции. 2я Директору вышшей воинской полиции с образованием оной. № 317 Военный министр Барклай де Толли1 <подпись> С-Петербург. марта 15 дня. 1812 года 2. 1ая армия По части воинской вышшей полиции С препровождением Дополнения к инструкции Директору вышшей полиции «11» апреля 1812 № 1 Секретно. Господину Главнокомандующему 2ой Армиею Генералу от инфантерии Князю Багратиону Я имел честь препроводить к вашему Сиятельству список с высочайше утвержденной инструкции Директору вышшей полиции при армии. Ныне сделав в следствие того некоторыя дополнения, к упомянутой инструкции, при вверенной мне Армии, я препровождаю при сем к вам Милостивый Государь мой копии с оного, предполагая, что может быть и вашему Сиятельству угодно будет для взаимного содействия к достижению цели вышшей воинской Полиции учинить подобные распоряжения в высочайше вам вверенной Армии, в разсуждении чего и буду ожидать уведомления вашего Сиятельства. Военный министр Барклай де Толли2 <подпись> 3. Копия Секретно. Господину директору вышшей воинской полиции при 1ой Западной армии3 Препровождая при сем для руководства вашего копию об высочайше утвержденной инструкции директору вышшей полиции при армии, в дополнение присовокуплю, что распоряжения ваши должны устремляны быть к достижению троякой цели сей полиции, состоящей: 1) в надзоре за полициею тех мест внутри государства, где армия расположена: 2) за тем, что происходит в самой армии и 3) в собирании сведений о неприятельской армии и занимаемой Ею Земли. Сверх зависящаго от вас употребления агентов4, для достижения первой из означенных целей вы можете требовать нужных по вашей части сведений от начальников местной полиции. Как о последней части подробно объяснено в прилагаемой инструкции, то в разсуждении двух первых в дополнение только последней нужным нахожу присоединить следующее: 1) цель надзора за местною полициею есть с одной стороны открытие и пресечение могущих быть злоупотреблений оной, а с другой возможность дать ей скорейшее пособие в нужных случаях. 2) надзоре за тем, что происходит в армии, имеет целию отвращение всякого недостатка в продовольствии, содержании войск и во всем для оных потребном, в поддержании в них надлежащего духа и наконец, чтобы всякой с должным рвением выполнял верноподданнический долг свой. 3) точныя сведения о движениях, расположении, духе и прочае неприятельских войск и земли оными занимаемой, нужны для открытия их слабой и сильной стороны и для принятия потому потребных мер. 4) для надзора за местною полициею директор вышшей полиции при армии требует от начальников первой сведений о бродягах, подозрительных людях, числе разного рода жителей и т. п. 5) для собирания точнейших сведений по каждой из трех вышеозначенных частей, директор вышшей полиции отправляет благонадежных и сведущих агентов5 в пограничныя губернии, в армию и за границу. Замечание*. Само собою разумеется, что люди сии должны быть различных званий, смотря по возлогаемым на них поручениям; равномерно судя по способностям их, одному можно иногда сделать поручения и по разным частям. 6) агентов по удостоверении в том, что они имеют надлежащия сведения и свойства не иначе должно допускать к исправлению поручений, как приведя на перед к присяге по прилагаемой у сего форме. 7) каждый агент снабжается перед отправлением его инструкциею от директора высшей полиции6. 8) вообще обязанность агентов состоит в поспешном и верном доставлении всех сведений по данным им поручениям, при исполнении коих должны они строжайше наблюдать скрытность и скромность. За деяное же упущение своего долга, подвергаются жесточайшему взысканию. Агенты должны обращать особенное внимание на могущие быть злоупотребления чиновников, столь пагубныя в настоящих обстоятельствах. 9) директор вышшей полиции по получении известий от агентов предоставляет их с замечаниями своими начальнику Главного штаба и ожидает разрешения Его. Сделав таким образом вам известными, сколько можно было предварительно, обязанности ваши, я твердо уверен, что вы по усердию ко благу отечества, будете прилагать все силы к тому, чтобы желаемой успех был последствием всех сих распоряжений. Подлинное подписал военный министр Барклай де Толли № 7 Главная квартира в Вильне «11» апреля 1812-го года верно: военный советник де Санглен7 <подпись> 4. Присяга для агентов8. Я обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и Святым Его Евангелием, что все поручения и повеления, которые я получу от своего начальства, буду исполнять верно и честно по лучшему разумению моему и совести, что за всеми явными и тайными врагами государства, кои учинятся виновными в речах или поступках, или окажутся подозрительными, будут тщательно наблюдать, объявлять об оных и доносить, как и где бы я ни нашел их; равномерно не буду внимать внушениям личной ненависти, не буду никого обвинять или клеветать по вражде, или по другому какому-либо противозаконному поводу, и все что на меня возложится, или что я узнаю, буду хранить в тайне и не открою или не обнаружу ничего ни пред кем, уже бы это был ближайший мой родственник, благодетель или друг. Все сие выполнить обязуюсь и клянусь столь истинно, как желал я. Да поможет мне Господь Бог, в сей равно и будущей жизни. Если же окажусь преступником против сей клятвы да подвергнусь без суда и добровольно строжайшему наказанию, яко клятвопреступник. Во уверение чего и подписуюсь9. 5. На подлинном написано собственною Его Величества рукою тако: Быть по сему. С. Петербург генваря 27го дня 1812 года Секретно. Инструкция Директору вышшей воинской полиции. Директор вышшей воинской полиции состоя в совершенном и непосредственном ведении Начальника Главного Штаба, обязан доставлять сведения о неприятельской армии положительно, скоро и безпристанно. Он ответствует за доброе движение всей системы вышшей полиции. Он ответствует за выбор и надежность всех употребляемых агентов. Он ответствует за тайну всех действий вышшей полиции. Он один находится в главной квартире. Все переписки и сведения получаются им следующим образом: На известныя места вне Главной Квартиры высылает он доверенных чиновников для принятия писем под условленными адресами к нему следующих. Чиновники сии отсылают оные к нему с надежными людьми. К его обязанностям относятся следующие предметы. I. О средствах узнавать истинных лазутчиков. § 1. Ложные лазутчики узнаются обыкновенно тем, что приносят новости неважные и никогда не доставляют других, кои могут или должны вероятно знать. § 2. Ложные лазутчики могут быть отправлены к неприятелю в армию следующим образом: Они должны быть схвачены и посажены под стражу, яко бы люди подозреваемые в шпионстве от неприятеля. Через несколько времени и после некоторой огласки их оправдания, могут они быть отпущены в неприятельскую армию. § 3. Лазутчики сего рода должны быть употребляемы с большою платою за важныя известия, и нужною осторожностию, дабы не вышли действительно двусторонними10. § 4. В числе сих лазутчиков могут быть употребляемы ложные дезертиры, кои передаваясь к неприятелю и вступая в его службу, уходят обратно и приносят известия11. II. Об употреблении двусторонних лазутчиков в свою пользу. § 5. Как скоро лазутчик подозревается двойным, должно немедленно довести до его сведения важные ложные известия, и в то же время описав его приметы, сообщить всей цепи корреспондентов с предписанием наблюдать за ним и давать ему ложныя известия. § 6. Когда он таким образом сделается безполезен неприятелю, должно схватить и посадить его под стражу12. III. О способах удостоверения в верности лазутчиков и агентов. § 7. Сверх разного рода лазутчиков, обязаны начальники округов вышшей полиции набирать из слуг, продавцов и ремесленников партии шпионов, определяемых к наблюдению за поведением лазутчиков, впадших в подозрение. Они обязаны следовать за сими последними даже в неприятельский стан, есть ли сие нужно. § 8. Для лучшего удостоверения в верности агентов, из неутральных или неприятельских чиновников набираемых, нужно привлекать их на свидание в местах безопасных, посылать к ним надежных офицеров с письмами от начальника Главного штаба, которые тотчас должны быть сожигаемы. Посланный обязан достать от них лестью и обещаниями такой письменный ответ, который бы, будучи ясным доказательством измены со стороны агента, служил залогом его верности. § 9. Свидания сии могут быть особенно полезны для поверки донесений лазутчиков и надежности их связей. § 10. Вообще весьма полезно иметь от лазутчиков письменные доказательства о их услугах. § 11. Никогда не должно дозволять лазутчикам приближаться к Главной Квартире, ни же к важнейшим пунктам соединения армии, дабы не могли они видеть ея движений и зделаться двусторонними шпионами, или чтобы не могли быть замечены и после узнаны неприятельскими лазутчиками. § 12. Все шпионы и разнощики писем должны знать одних начальников округов и окружных постоянных агентов вышшей полиции, кои уже присылают свои письма к директору вышшей полиции. § 13. Начальникам округов вышшей полиции и окружным постоянным агентам оной, строго запрещается иметь при себе слуг или лакеев, кои могут замечать людей, к ним приходящих, и изменив открывать их. Примечание. Директор вышшей полиции во всех прочих его обязанностях, поступает по предписанию Начальника Главного Штаба. Верно Военный министр Барклай де Толли13 <подпись> 6. На подлинном написано собственною Его Императорского Величества рукою тако: Быть по сему С. Петербург генваря 27го дня 1812 года Секретно Образование вышшей воинской полиции при армии Отделение первое. Состав управления вышшей воинской полиции при армии § 1. Вышшая полиция армии состоит в непосредственном ведомстве Начальника Главного Штаба. § 2. При нем находится директор оной. § 3. Вся окружность армиею занимаемая, разделяется на три части, то есть: по обоим флангам и центру неприятельской армии. § 4. Каждая часть сей окружности составляет округ вышшей полиции14. 58 § 5. Каждый из сих округов вверяется самому надежному и испытанному чиновнику вышшей полиции. § 6. Начальники сих округов разсылают на все важнейшие точки, неприятельской операционной линии, постоянных агентов, и объемлют оными оба крыла и зад неприятельских операций и продовольствия. § 7. К сим корреспондентам принадлежат 1е Партии испытанных и расторопных лазутчиков. 2е Жители неутральных и неприятельских областей, разных степеней, состояний и полов, кои могут быть употреблены вышшею полициею. 3е Партии низших лазутчиков из крестьян, кои употребляются на доставление местных сведений. 4е Разнощики тайных переписок трех округов и агентов вышшей полиции. Отделение второе. Об обязанностях окружных начальников вышшей полиции § 8. Обязанность окружных управлений вышшей полиции состоит в следующем: 2е Поверка сведений, ими доставляемых, сличением различных известий из одного места. 3е Строгое наблюдение, дабы агенты не могли знать либо встретить друг друга. 4е Охранение в величайшей осторожности и тайне сношений своих с директором вышшей полиции, строгим исполнением предписанных от него способов переписки. Примечание 1. Окружные начальники вышшей воинской полиции не могут не токмо иметь между собой сношений, но даже и не должны знать один о другом. Примечание 2. Агенты окружных управлений никогда не могут иметь доступа в Главную Квартиру иначе, как по собственному требованию Главнокомандующего, и не должны знать о местопребывании окружных управлений. Отделение третие. Об агентах. § 9. Агенты суть трех родов: 1е в земле союзной 2е в земле неутральной 3е в земле неприятельской 59 § 10. Агенты в земле союзной могут быть чиновники гражданские и военные той земли, или от армии посланные. § 11. Агенты в земле неутральной могут быть неутральные подданные, имеющие знакомства и связи, и по оным, или за деньги снабжаемые аттестатами паспортами и маршрутами, для переездов нужными. Они могут быть равным образом бургомистры, инспекторы таможень и проч.15. § 12. Агенты в земле неприятельской, могут быть лазутчики, в оную отправляемые, и постоянно там остающиеся, или монахи, продавцы, публичные девки16, лекари и писцы, или мелкие чиновники, в неприятельской службе находящиеся. Отделение четвертое. О лазутчиках. § 13. Начальник Главного Штаба обязан снабдить окружные управления вышшей полиции нужным числом лазутчиков двух родов: 1е Лазутчики на постоянном жалованье17. Они принадлежат непосредственно к окружным управлениям, разсылаются в нужных случаях, под разными видами и в различных одеяниях. Они должны быть люди расторопные, хитрые и опытные. Их обязанность есть приносить сведения, за коими они отправляются и набирать лазутчиков второго рода и разнощиков переписки. 2е Лазутчики второго рода должны быть предпочтительно обывателями неутральных и неприятельских земель разных состояний, и в числе оных дезертиры. Они приносят сведения по требованию, и по большей части местныя. Они получают особенную плату за каждое известие, по мере его важности. Они обязаны делать связи и набирать себе помощников, в месте их послания Отделение пятое. О разнощиках тайных переписок § 14. Разнощики тайных переписок должны необходимо быть жители тех самых земель, в коих вышшая воинская полиция действует, дабы имея знакомство и родственников, могли они иметь достаточные предлоги к частым отлучкам и переходам18. Отделение шестое. Способы действия вышшей воинской полиции. § 15. Способы действия вышшей воинской полиции состоят: 60 1е в суммах, на оную употребляемых 2е в распоряжении ея действий. § 16. Сумма, на вышшую полицию нужная19, вверится при самом начале кампании, Начальником Главного Штаба. § 17. Он не ответствует за употребление ни сей суммы20, ни той, которая по требованием его отпускаема ему будет; но ответствует за то, чтобы вышшая полиция была учреждена на самом лучшем устройстве и чтобы Главнокомандующий имел всегда все нужныя от оной истинныя сведения. § 18. Устройство и распоряжение действий вышшей полиции во всей их подробности учреждается инструкциями Начальнику Главного Штаба и директору вышшей полиции при армии. Верно Военный министр Барклай де Толли21 <подпись> 7. На подлинном подписано собственною Его Величества рукою: Быть по сему С. Петербург генваря 27го дня 1812 года. Секретно. Инструкция Начальнику Главного Штаба по управлению вышшей воинской полиции Добрая система вышшей полиции равно необходима как в наступательной, так и в оборонительной войне. В первой для верного расположения предприятий к операциям нужных; во второй к благовремянному познанию всех предприятий неприятеля и положения земель, в тылу армии находящихся. Система вышшей полиции тогда полезна и хороша, когда она так сокрыта, что неприятель думает, что ее нет и что противная ему армия не может получать никаких благоустроенных известий. По сему Начальник Главного Штаба обязан наблюдать, чтобы все действия его по вышшей полиции были непроницаемы и чтобы все получаемые о неприятельской армии известия оставались в величайшей тайне, даже и после удачных предприятий, на оных основанных. В самой армии должно распускать слухи, что Главнокомандующий, оградив себя от неприятельского шпионства, сам иметь оное почитает ненужным. Сведения, чрез вышшую полицию доставляемыя, тогда хороши, когда они быстры, полезны и справедливы. К устройству вышшей полиции на сем основании, нужны следующие распоряжения. I. О жалованье и плате лазутчикам. § 1. В жалованье и плате лазутчикам, должно быть принято правилом, не давать им ни слишком мало, ни слишком много; ибо в первом случае могут они 61 сделаться двусторонними или неприятельскими шпионами; а во втором, обогатясь слишком скоро, отстать неожиданно в самое нужное время. § 2. Нужно платить им достаточно, но держать их в ожидании большаго. § 3. За важные известия должно платить щедро22. § 4. Тем из агентов и лазутчиков, кои находясь в иностранной службе или в таком положении, которое препятствует принимать деньги, или жалованье, доставляют известия по какому либо духу партий, по личной преданности или дружбе, должно давать подарки, и доставлять выгоды под разными предлогами23, дабы не могли они подумать, что почитают их шпионами, служащими из корысти. § 5. Раздавая подобныя подарки вперед бургомистрам, чиновникам иностранных полиций и владельцам лучших домов в городах, в коих могли быть главныя квартиры, или жительство неприятельских генералов, можно подкупить их на будущее время. II. О способах переписки и сообщений. § 6. В числе множества известных способов переписки, предпочесть должно следующие: 1е Письмо может быть спрятано в восковой свече, выточенной из нутри трости, зашить в платье. 2е Оно может быть разрезано на полосы. 3е Им может быть заряжено охотничье ружье. В последнем случае, при доставлении можно ружье разрядить; при неудаче же, из него можно выстрелить. § 7. Есть ли на реке, в одном каком либо месте, оба берега заняты постами действующей армии, известия же должны получаться с верьху реки по ея течению: тогда можно протянуть с одного берега на другой невод, в котором бы останавливались бутылки, или крепко закрытые ящики с письмами. Заметить должно, что в бутылки и ящички сии должна быть положена такая тяжесть, которая бы держала их под водою. § 8. С одного берега на другой могут быть протянуты в плотинах или кустарниках веревки, удерживаемые под водою привешенными к ним тяжестями. Веревки сии могут быть на блоках и служить к пересылке писем в ящиках и бутылках с одного берега на другой. Были примеры, в коих употреблялся сей способ под льдом замерших рек. § 9. Во всех сих случаях, есть ли бы один из сих способов сообщения, мог быть открыт неприятелем, должно выставлять условные знаки и подавать сигналы, чтобы лазутчики или агент не приближался более к месту сообщения. § 10. С лазутчиками, которые не довольно смелы, можно условливаться о приносе письменных известий в кору выгнившего дерева, или под какой либо камень. Посланный за сими письмами, может брать их и приносить ответы не зная вообще лазутчика. § 11. Каждый округ вышшей полиции должен иметь разные ключи цыфирей, из главной квартиры получаемых. Один ключ должен быть употребляем для переписки с директором вышшей полиции, составлен из двух тысяч знаков, и внезапно, как можно чаще переменяем, особливо при каждом подозрении о его открытии перехваткою переписки, или изменою, и при перемене главного агента. Частные ключи должны быть сколь можно разнообразны и сложны. § 12. Важнейшая шифрованныя известия, должны быть посылаемы в двух, и даже в трех экземплярах, двумя или тремя разными путями, дабы в случае остановки, или побега, или перехвачения одного и двух разнощиков, известие могло дойти в Главную Квартиру. § 13. Вместо цыфири, для большей поспешности, можно употреблять самые надежные симпатические чернила; но не иначе как те, кои доставлены будут из Главной Квартиры24. § 14. В случаях сообщений словесных, особливо при посылке лазутчиков к таким лицам, коим они не знакомы, можно каждому из них дать предварительно пароль, по которому, при самом приближении лазутчика, могли бы узнать они, что действительно принадлежит он к вышшей полиции действующей армии; что они могут отвечать на пароль его известным отзывом, должны верить словам его, и могут сами все безопасно сообщить ему. Известные масонские знаки, и взаимные на них ответы, могут удобно в сих случаях быть употребляемы. § 15. Лучшим знаком доверенности к посылаемому за известием лазутчику могут служить вырезанные карточки. Известное число их под номерами отдается тому, с кем учреждается сношение. К нему посылается лазутчик с половиною одной из заномеренных карточек25. Он складывает ее с своею половиною, одинакого номера и сим удостоверяется, что посланный надежен. Сей способ удобен особливо в тех случаях, когда агент вышшей полиции находится в неприятельской армии, и не может отважиться давать письменных известий. Примечание. В прочем изложенными в сей статье способами, не отвергается употребление и других, кои могут быть изобретены, и найдутся удобнее и вернее. § 16. Важнейшим пунктом соединения тайных сношений могут служить монастыри, и поэтому должно стараться приобретать их начальников, ибо в сем случае монахи могут иметь разные способы доставлять письма и даже приносить известия, часто из повиновения своему начальнику, а иногда и за деньги. III. Дополнительные правила и замечания. § 17. Правила и замечания сии заключают в себе: а., о частных образованиях вышшей воинской полиции в., о принужденном шпионстве с., о вооруженном шпионстве д., о неприятельских шпионах е., о пленных ж., о ложных неприятельских беглецах з., об устройстве вышшей полиции при ретираде26 1е О частных образованиях вышшей воинской полиции. § 18. При каждом отдельном корпусе, и при передовом войске, обязан Начальник Главного Штаба устроить вышшую полицию на точных основаниях общей токмо в нужной соразмерности с числом корпуса же в гораздо меньшем виде27. § 19. Каждый начальник передовых отрядов должен употреблять крестьян, занимаемых деревень, на разведывание сколь можно ближайшее к неприятелю, а посылать в одно место многих, но токмо в разное время. 2е О принужденном шпионстве. § 20. В случае совершенной невозможности иметь известие о неприятеле в важных и решительных обстоятельствах, должно иметь прибежище к принужденному шпионству. Оно состоит в склонении обещанием наград, и даже угрозами местных жителей к проходу через места неприятелем занимаемыя. 3е О вооруженном шпионстве. § 21. Вооруженное шпионство производится следующим образом28: Командующий передовыми войсками отряжает разные партии Козаков, соразмерно в силе с неприятельскими постами. Команды сии поручает он самым отважным офицерам, и дает каждому расторопнаго лазутчика, который бы знал местное положение. Команды сии, помощию лесов, либо темноты, могут прорываться до назначенных им мест, и между тем, как офицер, командующий партиею, замечает местоположение, силы неприятеля и распорядок их, лазутчик узнает все обстоятельства и подробности. 64 § 22. Ежели неприятель ретируется, то сим способом можно видеть, в каком порядке и направлении идет он, можно напасть на обозы и транспорты его и сжечь их. 4е О неприятельских шпионах. § 23. Неприятельские шпионы должны непременно быть наказываемы смертию публично пред войском и со всевозможною огласкою29. § 24. Помилование их допускается в том токмо случае, когда будучи пойманы, дадут они сами важные известия, кои в последствии утвердятся произшествиями30. § 25. До сей поверки сообщенных ими сведений, должны они быть содержимы под самою крепкою стражею. 5е О пленных § 26. Начальник Главного Штаба, или, по поручению его, Директор вышшей полиции обязан наблюдать, что бы пленные нововзятые, содержимы были под стражею раздельно. § 27. Он должен допрашивать их сам и каждого порознь31, збивать в речах, и из разных их показаний выводить заключения о составе и силе неприятельских корпусов, дабы потом схватив из котораго либо из них пленнаго, и узнав, к какому корпусу принадлежит он, можно было судить как силен действующий корпус. Примечание. По захвачении болшаго множества пленных, не все они допрашиваются, но из них выбираются некоторые для допроса по назначению Начальника Главного Штаба, или по его поручению, Директор вышшей полиции. 6е О ложных неприятельских беглецах. § 28. От неприятеля могут передаваться беглецы, имеющие повеление сообщать ложные известия32. Их должно допрашивать порознь и под угрозою смерти принуждать сказывать истинну, задерживая под стражею до поверки оной, и обещая награды за показания справедливыя. § 29. Беглецов обыкновенных должно, принимая совсем иначе, сажать под стражу вместе с неприятельскими пленными, дабы сказываясь взятыми в плен прежде их могли они выведывать от первых разныя известия. 7е Об устройстве полиции при ретираде. § 30. При отступлении армии должно: 1е Чтобы окружные агенты по предписанию начальника того округа, коему принадлежат они, взяли новую линию. 2е Чтобы, отступая, оставляли они в земле, неприятелем занимаемой, надежную и непрерывную цепь своих агентов и лазутчиков, устроя с ними весь порядок надежнейших сношений33. § 31. В городах и селениях обязаны они удостовериться сколь можно в преданности бургомистров и владельцев таких домов, которые могут быть заняты неприятельскими штабами и генералами, дабы подслушивая их разговоры могли они извещать об оных чрез оставленных для сего лазутчиков. § 32. Лазутчиками сего рода наилучше быть могут факторы34, евреи35 и слуги36. Верно Военный министр Барклай де Толли37 <подпись> 3 То есть военному советнику Якову Ивановичу де Санглену (1776—1864). Он родился в Москве в семье выходца из Франции. На гражданской службе с 1793 г. В 1804—1806 гг. — преподаватель Московского университета. В начале 1812 г. был назначен директором особенной канцелярии Министерства полиции, но после «дела Сперанского» переведен царем в военное ведомство и занял пост директора высшей воинской полиции при военном министре. Во время войны совмещал также должность генерал-гевальдигера 1-й Западной армии (22 июля — 13 августа 1812 г.). 2 сентября 1812 г. был отправлен в Петербург, где до 1816 г. исполнял свои обязанности. В царствование Николая I получил известность как сочинитель в московских литературных кругах. Оставил интересные мемуары (Записки Якова Ивановича де Санглена // Русская Старина, 1883, т. 37, № 1—3). 4 Термин «агент» в начале XIX в. больше соответствовал современному слову «сотрудник». Под этот разряд тогда подпадали как чиновники разведывательных организации, так и резиденты, действовавшие за границей. Четкого разделения не существовало, но вообще как бы подразумевался определенный уровень грамотности «агентов» по сравнению с «лазутчиками». 5 Имеются в виду агенты окружных управлений (см. документ 6). 6 Здесь имеются в виду сотрудники или чиновники высшей полиции, в чьи обязанности входила организация разведывательной работы на местах, сбор необходимых сведений и вербовка лазутчиков. Такие инструкции обнаружены: подполковнику Е. Г. Кемпену от 7 июня 1812 г. (ЦГВИА, ф. 474, ед. хр. 21, лл. 1—2; ОР ГПБ, ф. 152, оп. 1, ед. хр. 241, лл. 3—5). и подполковнику М.-Л. де Лезеру, датированные маем 1812 г. (Отечественная война 1812 года. Т. XI, СПб., 1909, с. 308—310). Они почти полностью совпадают с параграфами 1—11 Инструкции директору вышшей воинской полиции (см. документ 5). 8 Присягу принимали, вероятно, только чиновники высшей полиции. Часть сотрудников, занимавшихся оперативной деятельностью, была взята из Министерства полиции: коллежский асессор барон П. Ф. Розен, отставной поручик (принятый вновь на военную службу) И. А. Лешковский, надворный советник П. А. Шлыков. В начале войны в контрразведку попали оставшиеся не у дел полицмейстеры городов Вильно и Ковно Вейс и майор Е. А. Бистром (погиб в Бородинском сражении), таможенный чиновник А. Бартц и житель Виленской губернии Я. И. Закс. Были приняты и несколько отставных офицеров, имевших опыт боевых действий: подполковник Е. Г. Кемпен, капитан К. Ф. Ланг, а также отставной ротмистр австрийской службы итальянец Винцент Ривофиннолли. В штат канцелярии поступили губернский секретарь Протопопов, коллежский секретарь В. П. Валуа, студент Петросевич. 10 В дуэли двух разведок русские часто прибегали к перевербовке агентов противника. Одним из самых удачных «двусторонних» агентов русской контрразведки можно назвать отставного ротмистра Давида Савана. В начале 1811 г. он был завербован наполеоновской разведкой и отправлен с заданием в Вильно. Но, прибыв в Россию, добровольно явился к русскому командованию. Поэтому контрразведка решила использовать его в своих целях, и он доставил в Варшаву подготовленные в русском штабе сведения. В начале 1812 г. Саван был вновь командирован французской разведкой на 5 месяцев в Вильно, где с его помощью контрразведке де Санглена удалось выявить 4 французских агентов, пресечь связи группы прибалтийских банкиров, снабжавших по договоренности с варшавскими банками агентуру Наполеона в Литве. Кроме того, во время пребывания в Вильно в мае 1812 г. личного посланца французского императора графа Л. Нарбонна Саван три раза тайно встречался с ним и передал специально подобранные в штабе Барклая сведения. То есть с помощью Савана удалось перед войной создать надежный канал дезинформации противника (ЦГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 433, лл. 5—7; ед. хр. 436, ч. I, лл. 153—156 об.; ф. 474, ед. хр. 8, 10, 11). 11 Во время войны существовала такая практика засылки французских дезертиров. Например, 21 июля 1812 г. по приказу Барклая к противнику были отправлены обратно один португалец и один испанец (Отечественная война 1812 года. Т. XIV, СПб., 1910, с. 189). 12 В документах удалось отыскать факты двойной деятельности только на одного русского агента — жителя Белостока Х. М. Цыгана. В 1810—1811 гг. он был «двусторонним лазутчиком» русского полковника К. К. Щица и французского резидента А. Беллефруа. После того как удалось узнать, что он передал за границу сведения о поездках русских разведчиков А. И. Нейгарта и Г. Альперина в герцогство Варшавское и они там были взяты под стражу, Цыгана арестовали (ЦГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 435, лл. 195—196; Отечественная война 1812 года. Т. I, ч. 1, СПб., 1900, с. 109; ч. 2, с. 262, 318; т. II, СПб., 1901, с. 66, 85, 89—90, 95, 166—167, 293; Т. III, СПб., 1902, с. 84—90; т. IV, СПб., 1903, с. 78, 261; т. V, СПб., 1904, с. 248—249). 14 В документах высшей полиции не было найдено ни одного упоминания об округах, поэтому, вероятно, во время войны § 3—5 не выполнялись. 15 Большое количество таких агентов было в Восточной Пруссии, многие из которых попали в поле зрения русской разведки еще в 1805—1807 гг. Значительно меньше подобной агентуры находилось в герцогстве Варшавском. 16 Удалось разыскать сведения лишь об одной женщине среди русского агентурного контингента — жительнице г. Риги Таубе Адельсон, выполнявшей разведзадания в 1806—1807 гг. В 1812 г. она вновь была послана в тыл противника для сбора информации (ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 2, ед. хр. 2535, л. 37; ф. ВУА, ед. хр. 3500, л. 12 об.). 17 Таковых в русской контрразведке было мало, в основном ее контингент информаторов состоял из «лазутчиков второго рода». 18 Такой «разнощицей тайных переписок» у русской агентурной группы, действовавшей во время французской оккупации в Полоцке, была Федора Миронова, крепостная помещика Гласнова. В качестве связной она несколько раз без всяких подозрений проникала в занятый французами Полоцк и доставляла оттуда от русских разведчиков письменные донесения командованию. Ныне в Полоцке ее именем названа одна из улиц. 19 В практике того времени бюджет контрразведки составлялся из так называемых «экстраординарных сумм», которые выдавались военачальниками во время войны. 20 Так, за октябрь — декабрь 1812 г. в 3-й армии на оплату агентов и лазутчиков, выполнивших задания, было израсходовано 95 червонцев, 717 рублей серебром и 2300 рублей ассигнациями (ЦГВИА, ф. 103, оп. 208б, св. 108, ед. хр. 1, ч. 2, лл. 3—4 об.). 22 Как правило, агентура предпочитала получать за свои услуги звонкой монетой. Одноразовые выплаты составляли от 5 до 30 червонцев, от 15 до 100 рублей серебром или 200—300 рублей ассигнациями. При перерасчетах 100 рублей ассигнациями приравнивались в документах разведки к 25 рублям серебром (ЦГВИА, ф. 103, оп. 208б, св. 108, ед. хр. 1, ч 2, лл. 3—4 об.). 23 Например, немецкие офицеры, сотрудничавшие с русской разведкой, соглашались брать деньги только на путевые издержки для выполнения заданий на территории Германии. Стать платными агентами для них было равносильно потери дворянского достоинства. 24 Так, симпатическими чернилами (видимыми только на просвет или после держания бумаги над огнем) во время своего нахождения в герцогстве Варшавском пользовался для передачи разведывательных сведений в Россию в письмах на имя своего брата в Ригу упоминавшийся Д. Саван. 25 Речь идет о системе разрезных купонов или карточек. Она использовалась только до начала войны при отправлении русских разведчиков за границу. На границе купон неровно разрезался на две части. Одна выдавалась агенту, другую передавали на таможню, через которую должен был возвращаться этот разведчик. На обратном пути он предъявлял свою часть карточки и, если они сходились, беспрепятственно следовал дальше (Отечественная война 1812 года. Т. XI, с. 58—60; т. XII, СПб., 1909, с. 46). Необходимо указать, что способы агентурной деятельности и сообщений вполне соответствовали тогдашнему уровню развития техники и связи. 26 «Ретирада» — устаревший термин, соответствует современному «отступление». 27 В 1812 г. при 1-м корпусе генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна находился сотрудник высшей полиции поручик И. А. Лешковский, а в отдельный корпус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля в Мозырь во второй период войны был направлен подполковник Е. Г. Кемпен. 28 Речь идет о войсковой разведке. Какие уставные требования предъявлялись к этому виду разведки в 1812 г., выяснить не удалось. Сохранились лишь «Общие правила для рекогносцировок», подписанные адмиралом П. В. Чичаговым 8 сентября 1812 г. Для разведывательного отряда считалось нормальным, если он состоял из роты егерей и 50 казаков, улан или гусар (ЦГВИА, ф. 103, оп. 208а, св. 0, ед. хр. 13, лл. 299—302). Для захвата пленных практиковалось переодевание в форму противника. Так, 8 сентября 1812 г. на р. Стырь генерал-майор К. О. Ламберт для внезапного нападения, снятия постов противника и получения «языков» использовал 15 «охотников» Татарского уланского полка, знавших немецкий язык и переодетых в австрийские плащи и каски (Епанчин Н. Очерк событий 1812 года в пределах Киевского военного округа // Военно-исторический Вестник, 1911, № 7—8, с. 8). 29 Во время войны 5 человек, чья принадлежность к французской разведке была доказана, в августе 1812 г. были расстреляны после суда в Мозыре (ЦГВИА, ф. 1, т. 2, ед. хр. 2535, лл. 30—32). Такая же участь постигла пойманного на Дону руководителя особой разведывательной группы противника из трех человек полковника графа А. Платтера (ЦГИА, ф. 1409, оп. I, ед. хр. 798, л. 4). Смертная казнь применялась только во время боевых действий 1812 г. В документах не удалось отыскать ни одного факта расстрела «за шпионство» до войны и после окончания кампании 1812 г. После 1815 г. большая часть пойманных наполеоновских агентов была прощена и отпущена на свободу, а иностранцам было разрешено вернуться на родину. 30 В рассказах, записанных со слов А. П. Ермолова его братом Н. П. Ермоловым, сохранились интересные зарисовки о деятельности французского агента Ружанского, арестованного в Смоленске русской контрразведкой: «В 1812 году (во время пребывания Наполеона в Москве) был у нас (двойной) шпион капитан-исправник из Дорогобужа — он же доставлял известия Наполеону и нашей армии, но так как его семейство было в наших руках (отправлено в Тамбовскую губернию) и мы платили вдвое более французов, отсылали деньги прямо в семейство, он служил нам. Сведения составляли Беннигсен и А. П. Ермолов... Это продолжалось до тех пор, пока Коновницын (храбрый, но ограниченный человек) имел неосторожность похвалиться, что мы все знаем, что делается в Москве. Тогда шпион отказался еще туда возвратиться...» (ЦГАДА, ф. 1406, оп. 1, ед. хр. 999, л. 1 об.). Русская контрразведка пыталась также использовать пойманного в Риге в 1812 г. прусского разведчика Карла Цебе, написавшего под диктовку русских донесение своему начальнику, генералу Г.-Д.-Л. Иорку фон Вартенбургу. Но так как обратного послания не было получено, К. Цебе расстреляли (ЦГВИА, ф. 29, оп. 153а, св. 5, ед. хр. 532, лл. 1—5). 31 В 1812 г. все пленные допрашивались «порознь». Кроме того, неоднократно отдавались приказы сразу же обыскивать пленных «невзирая на особу», а все найденные бумаги немедленно присылать в главное дежурство армии (ЦГВИА, ф. 103, оп. 208в, св. 55, ед. хр. 5/44, л. 79; Материалы для истории войны 1812 года. Приложения к запискам Алексея Петровича Ермолова. М., 1864, с. 61). 32 Забвение основных положений этого параграфа во время боевых действий 1812 г. имело весьма негативные последствия для русских в одном из драматических эпизодов под занавес событий. В конце кампании главные силы Наполеона были окружены в районе р. Березины. Для французов ситуация сложилась почти катастрофическая. Три возможных пути для спасения лежали через р. Березину, но их контролировала армия адмирала П. В. Чичагова. Поэтому Наполеон решил имитировать концентрацию своих частей на юге, а сам намеревался прорываться на севере. С этой целью была проведена операция по дезинформации Чичагова. На юге у д. Ухолоды демонстративно началось строительство ложной переправы. Кроме того, собрали совет местных жителей и внушили им «под большим секретом», что именно здесь французские части будут готовиться переходить через Березину. Конечно, сразу же нашлись добровольцы, решившие предупредить русское командование. Трое жителей ночью перебрались к русским и сообщили эту новость Чичагову, который их щедро наградил, но оставил при себе. Главные силы адмирал стянул к Ухолодам, но события стали разворачиваться по другому сценарию. Французы начали переправляться на север у д. Студенка, там, где русских сил было крайне мало. Когда стало ясно, что Наполеон, перехитрив, вырвался из окружения, то по приказу Чичагова эти трое невольных участников операции французской разведки были повешены. (Военский К. Наполеон и борисовские евреи в 1812 году // Военный сборник, 1906, № 9, с. 211—219). 33 При отступлении русская контрразведка оставила большие агентурные группы в Белостоке, Велиже, Полоцке и Могилеве, которые активно действовали весь период французской оккупации. 34 Фактор — от латинского «делающий», «производящий». Посредник, маклер, комиссионер, то есть человек, заключающий сделки и выполняющий деловые поручения. 35 Большую часть агентуры русской контрразведки в западных областях Российской империи составляли евреи, преимущественно мелкие торговцы и ремесленники. 36 В мае 1812 г. во время пребывания в Вильно графа Л. Нарбонна по заданию русской контрразведки камердинером к этому французскому дипломату устроился некто Станкевич. Станкевич не только вел наблюдение, но и сумел скопировать копию секретной инструкции Наполеона своему посланцу о военных задачах миссии в Вильно, в то время как Нарбонн и его свита находились на очередном светском рауте. С этой инструкцией был ознакомлен император Александр I и его ближайшее окружение (ОР ГПБ, ф. 152, оп. 1, ед. хр. 134, л. 2). Публикация В. М. БЕЗОТОСНОГО |
|
|
|
 7.2.2010, 5:58 7.2.2010, 5:58
Сообщение
#47
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Михаил Осипович Меньшиков
Михаил Осипович Меньшиков родился 25 сентября (7 октября) 1859 г. в городе Новоржеве Псковской губернии, недалеко от Валдая. Его отец, Осип Семенович Меньшиков, имел низший гражданский чин коллежского регистратора, а родом был из семьи сельского священника. Мать, Ольга Андреевна, в девичестве Шишкина, была дочерью потомственного, но обедневшего дворянина, владельца небольшого сельца Юшково Опочецкого уезда. Жили Меньшиковы бедно, часто нуждаясь в самом необходимом. Однако благодаря хозяйственности и недюжинному уму Ольги Андреевны кое-как сводили концы с концами. От избытка ли забот или по складу характера она была женщиной несколько нелюдимой, но не лишенной чувствительности и поэтического вкуса. Родители были религиозны, любили природу. На шестом году Миша начал учиться. Учила его Ольга Андреевна сама. Позднее он был отдан в Опочецкое уездное училище, которое окончил в 1873 г. В том же году при помощи дальнего родственника он поступает в Кронштадтское морское техническое училище. После окончания морского училища молодой флотский офицер пишет письмо своему покровителю: «Считаю долгом сообщить Вам, что закончил курс в Техническом училище и 18 апреля (1878 года) произведен в 1-й военно-морской чин по нашему корпусу (в кондукторы корпуса флотских штурманов). Экзамены я выдержал порядочно: по 10 предметам я получил 12 баллов. 30 числа я был назначен на броненосный фрегат «Князь Пожарский», а 2 мая фрегат распрощался с Кронштадтом и ушел неизвестно куда и неизвестно на сколько времени. Секрет. Мы были в Дании, Норвегии и теперь во Франции. Я получаю 108 рублей 50 коп. золотом в месяц. Это дает мне возможность, кроме своих прямых обязательств тратить несколько денег на осмотр чужих городов и примечательностей. Таким образом, я теперь в Париже, осматриваю всемирную выставку. Итак, я, видимо, вступил на новую дорогу...» Склонность к литературе Меньшиков проявил очень рано. Еще в середине семидесятых годов по его инициативе в Кронштадте выходил ученический журнал «Неделя». В 1883 г. после возвращения в Кронштадт Меньшиков познакомился и подружился с поэтом С. Я. Надсоном, который высоко оценил талант молодого офицера, новичка в литературе. Будучи уже безнадежно больным, Надсон приветливым словом и добрыми рекомендациями помогал Меньшикову. Вот выдержка из его письма, датированного 1885 г.: «Я зол, на Вас за то, что Вы не верите в себя, в свой талант. Даже письмо Ваше художественно. Пишите — ибо это есть Ваша доля на земле. Жду томов от Вас...» После участия в нескольких дальних морских экспедициях Меньшиков получил звание инженера-гидрографа. В те годы он написал и опубликовал очерки «По портам Европы» (1884), специальные работы «Руководство к чтению морских карт, русских иностранных» (1891), «Лоции Абоских и восточной части Аландских шхер» (1898) и др. В те же годы он начал печататься в «Кронштадтском Вестнике», «Голосе», «Петербургских Ведомостях», и, наконец, в газете «Неделя». В 1886 г. Надсон писал владельцу газеты П. А. Гайдебурову: «Меньшиков у Вас подвизается очень недурно и бойко. Помогите ему выбраться на ровную дорогу». В 1892 г., окончательно осознав свое литературное призвание, Меньшиков выходит в отставку в чине штабс-капитана и становится постоянным корреспондентом, затем секретарем и ведущим критиком и публицистом «Недели» и ее приложений, а с сентября 1900 г. фактически заведует газетой, одновременно активно сотрудничая в журнале «Русская Мысль», газете «Русь» и других изданиях. На рубеже веков «Неделя» прекратила свое существование. После некоторых колебаний Меньшиков связал свою судьбу с газетой А. С. Суворина «Новое Время», где печатались А. П. Чехов, его брат Александр, В. П. Буренин, В. В. Розанов и многие другие известные журналисты и писатели. Меньшиков был ведущим публицистом «Нового Времени» с 1901 по 1917 г. Он вел в газете рубрику «Письма к ближним», публикуя еженедельно по две-три статьи, не считая больших воскресных фельетонов (так назывались тогда особенно острые, серьезные материалы на темы дня). Свои статьи и фельетоны из этой рубрики Михаил Осипович выпускал отдельными ежемесячными журнально-дневниковыми книжками, которые переплетал потом в ежегодные тома. В «Письмах к ближним» Меньшиков обращался к широкому кругу духовно-нравственных, культурных, социальных, политических, бытовых и других вопросов. Характер выступлений определялся его общественно-политическим идеалом, который окончательно сложился в начале 90-х годов: крепкая власть с парламентским представительством и определенными конституционными свободами, способная защищать традиционные ценности России и оздоровить народную жизнь. Будучи одним из создателей «Всероссийского национального союза» (не путать с «Союзом русского народа», как это делают некомпетентные историки. — М. П.), Меньшиков так формулировал его цели: «...восстановление русской национальности не только как главенствующей, но и государственно-творческой». Отвергая деятельность революционных организаций как партий «русской смуты», Меньшиков писал на темы самые разнообразные: о политико-экономическом движении, о «желтой» прессе, об усилении влияния на общество революционного движения и об очевидных трагических последствиях «внутреннего завоевания» России. Публицистические выступления Меньшикова в «Новом Времени» имели большой общественный резонанс. У него был широкий круг единомышленников, но и противников было более чем предостаточно. После отстранения Михаила Осиповича от работы в «Новом Времени» Меньшиковы впервые остались в Валдае на зиму 1917/18 г. Меньшиков очень любил Валдай, Валдайское озеро, дивный Иверский монастырь, обретал покой и счастье в своих самозабвенно любимых детях, радость общения с родными, ближними, с друзьями, навещавшими его в Валдае. В революционные дни 1917 г. князь Львов, глава Временного правительства, предлагал Меньшикову уехать за границу, но он не захотел, не смог покинуть Россию. 20 сентября 1918 г. на берегу Валдайского озера, среди бела дня, на глазах у перепуганных «валдашей» и шестерых малолетних детей М. О. Меньшиков был расстрелян по приговору ЧК. По свидетельству очевидцев, Михаил Осипович перед смертью молился на Иверский монастырь, хорошо видный с места расстрела... Трудно сложилась судьба семьи М. О. Меньшикова. Немыслимыми усилиями с помощью родных и ближних удалось уцелеть детям и вдове, Марии Владимировне Меньшиковой, в годы красного террора, голода и разрухи тяжелейших войн — гражданской, затем Великой Отечественной. Только младший сын Миша умер от голодного менингита спустя четыре года после гибели отца, и был похоронен рядом с ним. Чудом сохранились, пусть не полностью, архивы Михаила Осиповича. Несмотря на выселение всей большой семьи из собственного дома во флигель, обыск при аресте главы семейства, голодные годы, Меньшиковы хранили бумаги, фотографии, документы. В 30-е годы, после того, как все Меньшиковы уехали из Валдая в Ленинград, Мария Владимировна стала частями передавать архив детям. В 1934 г. после убийства Кирова начались неприятности у Григория Михайловича, старшего сына М. О. Меньшикова. Ему с женой и малолетним сыном грозила тяжелая, дальняя ссылка. Однако тогда он был оправдан. Через год архивами Меньшикова заинтересовался Литературный музей в Москве. Ольга Михайловна, одна из дочерей Михаила Осиповича, так рассказывала об этом: «В ноябре 1935 года моя Мама, Мария Владимировна Меньшикова, получила письмо от директора Литературного музея в Москве В. Д. Бонч-Бруевича. Письмо было написано очень любезно и содержало в себе предложение передать Литературному музею покойного М. О. Меньшикова или продать. О том, что такой архив имеется В[ладимир] Д[митриевич] узнал от «общих знакомых». Я это письмо читала и помню в основном его содержание. Моя Мама жила в Ленинграде у своей сестры Зинаиды Владимировны Поль. Все мои сестры и брат находились в этом же городе. Одна я из детей М. О. Меньшикова жила в Москве, и поэтому Мама написала мне и переслала письмо для прочтения. Она также написала мне, что основная переписка Папы с известными писателями давно продана (в Ленинграде). Это было сделано с помощью профессора Нестора Александровича Котляревского, близкого знакомого Ольги Александровны Фрибес, которая была добрым другом семьи Меньшиковых. Мама просила меня сходить на прием к Бонч-Бруевичу и выяснить, как будет использоваться папин архив в случае передачи его в фонды музея. Время было трудное, сложное, и мы не хотели, чтобы лишний раз дорогое для нас имя попадало в печать с оскорбительными для него комментариями. Мама просила меня еще продать музею шесть писем Н. С. Лескова. Мне помнится, эти письма были адресованы уже не Папе (переписка папы с Лесковым была продана раньше), а Лидии Ивановне Веселитской-Микулич, большому другу нашей семьи, и были ею переданы для продажи, как бы в помощь маме, растившей после смерти папы большую семью. Я пошла в Литературный музей 31 декабря 1936 года, но не застала Вл[адимира] Дм[итриевича]. Его очень любезная секретарша назначила мне прием на 2 января в 4 часа 30 мин. дня уже 37-ого года. 2 января Бонч-Бруевич меня принял. Были сумерки, в его полутемном кабинете уже горела настольная лампа. Седой, почтенного вида человек, суховато со мной поздоровался, предложил сесть. Спросил, что я имею ему сказать по поводу его предложения. Я сразу совершенно откровенно ответила ему, что нас, Меньшиковых, интересует судьба архива после передачи музею, если таковая состоится, возможность отрицательных отзывов при использовании материалов и что нам хочется избежать этого. Тогда Вл[адимир] Дм[итриевич] еще суше спросил меня: «Разрешите спросить вас, как вы сейчас относитесь к своему отцу, как к исторической фигуре или как родителю?..» Я просто и сразу ответила: «Конечно, как к отцу!» Он резко повернулся в кресле и ответил мне следующей фразой: «Тогда вы не минуете многих неприятностей, я не могу вам обещать использование материалов без соответствующих отзывов». Я сказала, что в таком случае наша семья не считает возможным передавать тот небольшой архив, который у нас имеется в ведение музея и предложила Бонч-Бруевичу письма Лескова. На этом мой визит закончился. Влад[имир] Дмитриевич сказал, что в отношении цены за письма я зашла бы к его секретарше, после ознакомления с их содержанием. Больше я к директору музея не ходила и его не видела. Его внимательная и приветливая секретарша сказала мне через несколько дней, что письма оценили в сто рублей. Я списалась с Мамой и вскоре получила и переслала ей деньги. У меня осталось неприятное впечатление от контраста между любезным письмом к Маме и сухим приемом, когда я была у Бонч-Бруевича. Я была молода — мне было 25 лет — и я всегда любила и жалела Папу. О. Меньшикова, 3 марта 1978 г.» В 1937 г. старший сын М. О. Меньшикова Григорий Михайлович был арестован. Долго находился в «Крестах», как до того в Москве на Лубянке, и был освобожден лишь в 1939 г. Когда начались аресты, бумаги Михаила Осиповича прятали кто как мог, и многие материалы пропали, так как не всегда потом их изымали из тайников. Позднее разрозненные архивы стекались к Ольге Михайловне Меньшиковой, которая в 1927 г. вышла замуж за Бориса Сергеевича Поспелова, сына сельского священника из Подмосковья и уехала из Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны Ольга Михайловна и Борис Сергеевич с институтом, где он работал, уехали в эвакуацию. Перед отъездом они тщательно спрятали наиболее ценные бумаги и фотографии. Но в дом, где оставались родители Бориса Сергеевича, Сергей Дмитриевич и Ольга Сергеевна Поспеловы и где хранились архивы, пришли немцы. Опять разгром, раскиданные книги, бумаги, сломанная мебель, крыша изрешечена осколками снарядов, соседний дом сгорел. Хорошо, что старики остались живы, хорошо, что вновь чудом, но остались в целости архивы М. О. Меньшикова. Как убили моего мужа, М. О. Меньшикова, в г. Валдае Новгородской губ. Тихо и скромно жили мы в Валдае. Наш достаток, плод долговременного, неустанного труда мужа, исчез как дым. Мы стали почти нищими. Все заработанное мужем отняли, отняли и все, что он мог бы еще заработать, т. к. перестали печатать написанное им. Трудно было сводить концы с концами. Моя мама переселилась к нам, чтобы помочь нам, приглядывая за нашими малолетними детьми. Она ежедневно занималась с ними, разделяя труд преподавания с мужем. Детей у меня было шестеро, мал-мала меньше, и я ожидала седьмого. Муж учил их, гулял с ними и ходил на службу. Я хлопотала о пропитании семьи, стряпала, хозяйничала. Все возрастающая дороговизна и угроза голода тревожили меня из-за бедных ребятишек. Мы уже поговаривали о переселении в Саратовскую губернию, в уездный городок, где, как нам писали, все же легче было прокормиться бедным людям. О, если бы мы успели осуществить это намерение. Но вот неожиданно-негаданно 1 сентября, в субботу, в половине восьмого утра к нам вторгаются четыре солдата и один штатский. Не предъявляя никакого ордера, они спрашивают прислугу, дома ли товарищ Меньшиков. Прислуга отвечала: «Дома. Они у себя наверху. Я пойду доложу». Но они удержали ее, говоря, что сами пойдут наверх. Услыхав это, старшая дочь моя, десятилетняя Лида, прошмыгнула наверх раньше их. Муж стоял у умывальника и мылся. Встревоженная Лида сказала ему: «Папа, к тебе солдаты». Я тоже была наверху. Солдаты вошли. — Вы товарищ Меньшиков? — Да. — Товарищ М., мы должны у вас сделать обыск. — Пожалуйста. Товарищи принялись за дело, рылись в комоде, перебирая всякую мелочь. Увидав авиаторский значок, старший солдат сказал: — Это монархический значок. Я не утерпела и сказала ему: «А у вас, что это болтается, скажите, пожалуйста». — Это? Это тоже монархический значок. — Ну вот видите. Вы его еще носите, а у нас он только лежит в комоде. Перевернув все вверх дном, они добрались до старенького кортика, который муж бережно хранил в память своей юности и морской службы. — Почему кортик не был сдан своевременно? Муж поспешил отыскать и предъявить им квитанцию о своевременной сдаче оружия. Кортик же этот ему разрешили оставить на память по его просьбе. Из чемодана вытащили все старые дневники мужа, пачку писем и вырезки из «Нового Времени». Покончив с обыском, гости заявили: «Товарищ М., мы должны вас арестовать». Эти слова поразили меня, как громом. За что. Что он сделал. Что они нашли. Разве можно так, ни с того ни с сего уводить из дома мирного обывателя, ни в чем подозрительном не уличенного. Так нельзя... Я еще не верила своим ушам. Дети тоже испугались, стали плакать и просить солдат, чтобы отца не уводили. Муж старался нас успокоить, но это было нелегко. Не зная, что сказать им, я бросилась на колени перед этими сильными мира. Я дрожала и рыдала и как могла умоляла их не уводить мужа, оставить его с нами. Старший солдат сказал мне: «Вы культурная дама и так поступаете». Я сказала, рыдая: — При чем тут культура. У детей хотят отнять отца, у меня мужа. Дети заплакали еще сильнее и, вероятно, чтобы успокоить нас, этот человек сказал, что после допроса мужа освободят. Мы поверили, но продолжали плакать. Обидно было нестерпимо. Человек сидел у себя дома, безропотно перенес и то, что у него отняли состояние, и то, что его лишили работы, которая была его жизнью. Все это он перенес не возмущаясь, ни в каких заговорах или попытках восстановить старое не участвовал, учил своих детей. Никого он не трогал, никого не проклинал, подчинялся всем декретам, приспособлялся к новой жизни, и вот ни за что уводят куда-то, обижают его и нас. Мужу разрешили одеться и выпить стакан чаю. После этого он простился с нами, перекрестил каждого из нас и окруженный вооруженной стражей вышел из родного дома навсегда. Тут мы еще больше почувствовали горе, обиду и любовь к нему. Все рыдали: моя мама, я, няня, дети и прислуга. Горе ведь обрушилось так неожиданно... Его увели в тюрьму, где сидело уже много валдайских купцов, взятых заложниками. Я оставила плачущих детей с мамой и, чувствуя, что что-то надо делать, не теряя ни минуты, надо помогать ему, надо найти заступников, бросилась к знакомым Птицыным за советом. Молодой сын Птицыной был арестован в эту же ночь, но наутро его уже выпустили на поруки. Может быть, освободят и мужа или хоть разрешат мне свидание с ним. Он сам лучше что-нибудь придумает, научит меня, что делать. Птицыны советовали мне не просить свидания с мужем сегодня же, а пойти туда лучше в воскресенье. Но когда в воскресенье я пошла просить о пропуске в тюрьму, мне сказали, что разрешить свидание нельзя. Нет служащих, от которых это зависит. Притом власть вчерашних распорядителей уже и прекращается, т. к. в Валдай прибыл Главный Военный Полевой Штаб. Вернувшись домой ни с чем, я поспешила послать мужу его спальный прибор, хлеба, яиц и записку, которую ему и доставили, несмотря на все затруднения. В Понедельник утром я пошла со старшими детьми Лидочкой и Гришей в Главный Военный Полевой Штаб, помещавшийся на Торговой улице в доме Ковалева. Мы стали читать надписи на стенах этого дома «Комендант», «Комиссар», «Председатель Главного Штаба». Войдя наконец в указанную нам комнату, мы увидели там за столом только несколько молодых людей. Один из них занимал место Председателя. Я заметила у него на пальце чудный бриллиантовый перстень. Я стала просить у него пропуска для свидания с мужем, я все-таки надеялась на то, что свидание наше состоится и что он укажет мне пути, назовет кого-нибудь, кто мог бы его защитить. Сама я решительно не знала, что делать, только с мукой чувствовала, что время дорого, что нельзя терять ни минуты. Молодой человек, выслушав мою просьбу, спросил меня: — Как ваша фамилия? — Меньшикова, — был мой ответ. Тогда он понизил голос и как бы по секрету пробормотал: — Я хорошо знаю вашего мужа, мои родители были близко знакомы с ним. Обрадованная, я спросила: «Как ваша фамилия» Он шепнул еще тише: «Князь Долгоруков. Но прошу Вас никому не говорить этого». Сдерживая свою радость, и чтобы не выдать его перед другими сидящими в этой комнате, я шепотом сказала: «Хорошо». Какая неожиданная радость. Князь прямо пообещал содействовать в освобождении мужа. Однако в пропуске на этот день он мне отказал. Все же я вернулась домой окрыленная надеждой. Приготовив мужу обед, я сама понесла ему в тюрьму, взяв с собой и детей. Детям было дико, что папа в тюрьме. За что? Я не могла понять, как это можно ни с того ни с сего посадить в тюрьму совершенно невинного человека. Хорошо, что князь Долгоруков поможет. И хоть обед передадут мужу. Вернувшись домой, я получила первую записку от мужа, переданную нашей няне — Ирише одной из ее знакомых. Во Вторник утром я снова поспешила в Штаб, надеясь на этот раз получить разрешение на свидание с мужем. Князь Долгоруков занимал свое место Председателя. Выслушав меня, он громко заявил, что муж мой настолько важный преступник, что никакого пропуска к нему дать нельзя. И по всей вероятности, для суда над ним его повезут в Новгород. Я решила, что куда бы его ни повезли, я поеду с ним, и сказала об этом князю. Тогда он громогласно заявил мне, что назначение Штаба состоит в том, чтобы чинить суд скорый и справедливый. Князь заявил, что сам он не будет допрашивать мужа, т. к. он лично знаком с ним. Это могло бы навлечь на него нарекания. А я, развеся уши, выслушала все, что говорил мнимый князь, который оказался совсем не Долгоруким, а евреем Гильфонтом, студентом медицинской академии. Бедный, бедный муж мой, бедные мои дети. Когда в среду я снова пришла за пропуском, мне сказали, что Гильфонт уехал в Новогород. Я обратилась к заменявшему его молодому человеку, русскому, здоровому и раскормленному. В самой грубой форме он отказал мне в пропуске и сказал, что муж мой преступник. Он призывал к еврейским погромам. Я возразила, что мой муж никогда не призывал к погромам. Если он и порицал иной раз деяния евреев, то точно так же, как порицал и деятельность всех других людей, если она была во вред России... Он не соглашался с этим и говорил: — Ваш муж писал за деньги... Я заметила, что всякий берет деньги за свою работу. И вы берете деньги за Вашу работу. Во всяком случае я Вас прошу не говорить мне дурного о моем муже. Но он не унимался. — У нас есть доказательства того, что он призывал к погромам. Вот они... Он указал рукой на вырезки из старого номера «Нового Времени», взятые у нас при обыске. Дневники мужа и письма к нему валялись у них тут же на подоконнике. Все это было очень больно. Кто же может дать мне пропуск для свидания с мужем? Комендант направил меня к комиссару. Комиссар Губа, выслушав мои слезные просьбы, сказал, чтобы я пришла за пропуском лучше вечером, часов в семь. Тогда у него, может быть, будет время поговорить со мной, а теперь ему некогда. Я пошла вечером и с семи часов ждала очереди в приемной. Долго, долго пришлось ждать. Сердце болело, голова кружилась от тревожных мыслей. Наконец, комиссар вышел ко мне и спросил, что нужно. — Свидания с мужем. — Нельзя. Я стала перед ним на колени, кланялась, плакала, молила не отнимать у детей отца... Он злобно сказал: — А на что он нам. На мясо, что ли. Я так плакала, что он велел меня выгнать из Штаба. Я покорилась и ушла, но в четверг вернулась попытать счастье. Страшно было пропустить благоприятную минуту, благоприятную встречу, благоприятное настроение судей. Ведь через кого-нибудь Бог поможет нам. Надо ловить, искать... В четверг в Штабе не было уже ни Гильфонта, ни вчерашнего комиссара, ни коменданта. На этот раз я нашла там молодого человека лет 19-ти с прекрасными грустными глазами. Я подошла к нему и стала просить о пропуске. Он пообещал походатайствовать за меня, но дать пропуска сам он не мог. Я вернулась домой. Там мне передали письмо от мужа. Он писал, что был уже допрос всем арестованным. В одной камере с мужем сидели наши купцы: Н. В. Якунин, М. С. Савин, В. Г. Бычков, Я. Б. Усачев и двое юношей Б. Виноградов и Н. Савин. При допросе мужу сказали: «Можете быть покойны. Вы свободы не получите». Он спросил: «Это месть?» — Да, месть за ваши статьи, — был ему ответ. Письмо было написано на клочке газетной бумаги. Бедный муж просил прислать детей в сад, прилегающий к тюрьме. Ему хотелось хоть издали посмотреть на своих малышей. Он писал, что каждый день в 12 ч. и в 4 ч. он подходит к окну, к решетке и смотрит, не гуляют ли в саду его детишки... Мы жили на противоположном конце города и никогда раньше в этот сад не ходили. Письма мужа были полны ласки и заботы о них. Он писал, что в сердце у него еще теплится слабая надежда на сохранение жизни. Я послала в прилегающий к тюрьме сад четырех старших детей. Только две младшие крошки остались дома. Сама я пришла в сад несколько позже. Отыскав детей, я сейчас же увидела и своего бедного заключенного, в четвертом окне второго этажа. Я горько плакала и показывала рукой на свое сердце, чтобы сказать: «Смотри, как мне больно. Как невыносимо тяжело и больно выносить то, что с тобой делают». Он тоже отвечал понятными мне жестами, что и ему очень тяжело, и я видела, как он, бедный, горько плакал, глядя на нас из-за решетки. Несчастные дети, широко раскрыв глаза, смотрели на папу, который из-за тюремной решетки благословлял их и посылал им воздушные поцелуи. Он не сводил с них глаз и, казалось, не мог достаточно наглядеться на них. Подле него стоял у окна знакомый нам Савин, тоже арестованный. Сорок минут провели мы в этих немых разговорах, говорили глазами, сердцами, горестно и жадно глядя друг на друга. Когда муж сделал знак рукой, чтобы мы уходили, мы пошли, не подозревая, что это свиданье было последним, что мы уже не увидим его живым. И настала Пятница, страшная, злополучная Пятница, принесшая мне такой тяжелый удар, удар, рубивший и мою жизнь, и жизнь детей. С утра у нас что-то загорелось в трубе, мы испугались пожара. Поднялся переполох, из-за которого запоздал обед мужу. И когда няня принесла обед в тюрьму, ей там сказали, что Меньшикова увели в Штаб на допрос. В этот же день сын Савина принес мне пакетик от мужа, это было утром. Развернув его, я выронила из бумаги обручальное кольцо и испугалась. Муж возвращал мне кольцо. Мне стало жутко и страшно. Задыхаясь от волнения, я стала читать. Муж посылал прощальное письмо мне, детям, бабушке, друзьям и близким людям, любившим его, ценившим его. Он прощался со всеми и писал, что умирает жертвой евреев, не видя, не сознавая своей вины. Детям он посылал кусочки сахара и по леденцу. Читая и разглядывая присланное, мы горько плакали. Долго не смолкали в нашей комнате стоны и рыдания. Мама старалась утешить нас и говорила, что муж по своей мнительности, может быть, преувеличивает опасность и напрасно только расстраивает себя и нас. Неужели не спасти его. Неужели правда перед ним смертельная опасность... Окончательно теряя голову, я снова бросилась в Штаб. Надо было искать защиты, спасенья... Но где найдешь их? У входа в Штаб, внизу, у лестницы, я увидала того юношу, который накануне обещал мне свое ходатайство. Я узнала, его фамилия — Давидсон. Увидав его, я подошла к нему и стала просить о пропуске. Он посмотрел на меня, взял меня за руку и сказал: «Как мне вас жаль. Зачем вы так убиваетесь, зачем. Не плачьте. Ваш муж будет жив. Завтра я вам достану пропуск к нему». Я спросила: «А сегодня суда не будет?» — Какой же может быть суд, когда Комиссар и Председатель суда уехали в Новгород. Успокойтесь, успокойтесь. Все будет хорошо. — Да... Правда... Мое наболевшее, измученное сердце переполнилось горячей благодарностью к этому доброму человеку. Видимо, он сочувствовал моему горю, понимал его. Я схватила его руки и стала с благодарностью целовать их, обливая их слезами. Как я благодарила его за себя и своих детей... Я поверила тому, что он поможет спасти мужа, поможет сохранить ему жизнь. Ведь в этом все... В этом главное. Как ни ужасно, как ни мучительно все, что мы переживаем, но готовы терперь и худшее, готовы выносить еще что угодно, только бы сохранить ему жизнь и не допустить злодеяния. Несколько успокоенная и обнадеженная Дэвидсоном, я иду домой и на городской площади встречаю знакомую купчиху. Она останавливает меня и радостно сообщает, что из Петрограда приехал некий Ликас и что он просил передать мне, что в Петрограде усиленно хлопочут за мужа. В разговорах об этом мы дошли до ее дома. Она вызвала Ликаса, который сейчас же рассказал мне, что инженер Оранжереев усиленно хлопочет об освобождении мужа. Переговорив с Ликасом, я решила немедленно послать еще в Петроград срочную телеграмму для ускорения и усиления ходатайства. У меня не было с собой денег, но Ликас вызвался сейчас же отправить телеграмму в Петроград. Прощаясь со мной, моя знакомая взала с меня слово, что я сегодня же отслужу молебен св. Трифону и Иоанну Воину. И я вернулась домой почти вполне успокоенная. Накормив обедом всех своих, я заперла дом, и мы все вместе: бабушка, няня, дети, я и прислуга пошли служить обещанный молебен на горе, подойдя к церкви, мы увидели, что собор и церковь Введения закрыты. Служить молебен можно было только на кладбище. Неужели Бог не хотел выслушать нашей общей дружной молитвы. Мы снова приуныли. Стало тяжело и жутко. Я послала няню к тюрьме в сад, вместе с детьми надеясь, что муж уже вернулся туда, а сама поспешила отнести Ликасу деньги за телеграмму. Хотелось убедиться в том, что он послал ее. Мама вернулась домой. Пока дети шли с няней к тюрьме, стал накрапывать дождь, поднялся ветер, все сильнее и сильнее, разыгралась настоящая буря. Видно, и небо возмутилось совершаемым грехом. Разве не грех было это осуждение на казнь невинного человека, честного труженика, талантливого писателя, трудами и талантливостью которого гордилась бы всякая страна, в которой люди не сошли с ума. Небо омрачилось. На озере забушевали волны. Лодки так и рвало, так и бросало. Казалось, любимое озеро моего мужа кипело гневом, скорбью и негодованием. Дети с няней дошли до Штаба и остановились в воротах, чтобы переждать ливень и бурю. Только старшая моя девочка, 10-летняя Лидочка, невзирая на ливень, побежала в лавку за мясом. Остальные дети укрылись от непогоды в Штабе. Няня услыхала тут, что сейчас идет суд над моим мужем. Не прошло и десяти минут, как дети услыхали громкое бряцание оружия, говор и смех, и на улицу высыпало человек 15 вооруженных солдат-красногвардейцев. Это была стража, окружающая мужа. Он шел среди них в одном пиджаке и своей серенькой шапочке. Он был бледен и поглядывал по сторонам, точно искал знакомого доброго лица. Неожиданно увидав детей так близко, он просиял, рванулся к ним, радостно схватил на руки самую маленькую Танечку и крепко-крепко прижал ее к груди. Муж поцеловал и перекрестил ее, хотел поцеловать и благословить и тянущуюся к нему Машеньку, которая с волнением ждала своей очереди, но его грубо окрикнули, приказывая идти вперед без проволочек. Муж гордо посмотрел на них и сказал: — Это мои дети. Прощайте, дети... Он успел сказать няне, что его ведут на расстрел. Пораженная ужасом няня замерла на месте, затем убедилась, что его ведут действительно на расстрел, переулочком к берегу озера, которое он так любил. О подробностях казни нам после рассказывала мещанка, видевшая убийство из своего дома, находящегося напротив места расстрела. Придя под стражей на место казни, муж стал лицом к Иверскому монастырю, ясно видимому с этого места, опустился на колени и стал молиться. Первый залп был дан для устрашения, однако этим выстрелом ранили левую руку мужа около кисти. Пуля вырвала кусок мяса. После этого выстрела муж оглянулся. Последовал новый залп. Стреляли в спину. Пуля прошла около сердца, а другая немного повыше желудка. Муж упал на землю. Лежа на земле, он конвульсивно бился, он бил руками об землю, судорожно схватывая пальцами ее. Сейчас же к нему подскочил Давидсон (будь он навеки проклят) с револьвером и выстрелил в упор два раза в левый висок. Слова свои Давидсон, наконец, привел в действие. Как рассказывали после мне вместе сидевшие с мужем, при допросе (это было в тюрьме), при котором был и Давидсон, он сказал: — Я сочту за великое счастье пустить Вам (мужу) пулю в лоб. Дети расстрел своего папы издали видели и в ужасе плакали. Извергам было мало одной казни. Через четверть часа после расправы с мужем, бедным мучеником, на то же место привели другого невинно осужденного молодого человека, почти мальчика, сына уважаемого М. С. Савина. Восемнадцатилетний юноша, только что окончивший реальное училище, отсидел три месяца в тюрьме, после чего выслушал смертный приговор. Выйдя из Штаба, молодой человек увидал своего несчастного отца, который подошел к Давидсону и просил у него разрешения проститься с сыном. Давидсон учтиво ответил: — Сделайте одолжение, если желаете, чтобы в результате оказалось два трупа, а не один. А бедного юношу повели на то же место, где только что убили моего мужа. Несчастный старый отец шел сзади, издали благословляя сына и горестно выкрикивая, сквозь слезы: — Прощай, дитя мое ненаглядное. Прощай моя радость, дорогой мой сын. Да благословит тебя Христос... Прощай сынок. Но сын его шел храбро на расстрел. Встречаясь со знакомыми, он улыбался и прощался с ними. При повороте за угол в переулок, к месту казни, молодой Савин снял фуражку и в последний раз поклонился своему отцу, прощаясь с ним. Молодой человек просил, чтобы ему не стреляли в спину, говорил, что он готов встретить смерть лицом к лицу. Этот мученик также был убит с нескольких залпов. Двумя пулями в сердце и одной в живот он был убит. Но когда этот юноша упал на землю, к нему подбежал красногвардеец и еще раз выстрелил в упор в висок. Мозги вылетели у молодого человека, обрызгав издевавшегося над убитым. Во время второго издевательства над жизнью человека труп мужа еще лежал тут же. После свершения казни Давидсон подошел к убитому горем старику и сказал ему с изысканной любезностью: — Ваш сынок прислал Вам последний привет. — И он сделал жест рукой, означавший, что сына уже нет в живых. Отец-Савин стал просить, чтобы ему выдали тело убитого. Давидсон разрешил это, а затем отправился еще в квартиру казненного, чтобы передать последний привет сына несчастной матери. Отцу убитого юноши, когда он увозил тело сына домой, пришлось мозг подбирать в платок. Пока совершались эти ужасные злодеяния, я ничего не подозревая и твердо надеясь на успех Петроградского ходатайства, отнесла деньги за телеграмму и спокойно пошла домой. Я не слыхала даже выстрелов, которые слышали все, кто был на улицах. Проходя мимо дома моих знакомых — Птицыных, я увидала заплаканные лица девочек. Я также заметила, что их прислуга, увидав меня с балкона, точно отшатнулась в ужасе. — «Что с ним, что такое?..» Я вошла к ним и прямо спросила: «Что случилось?» Елизавета Петровна Птицына, смущенная и печальная, ничего не ответила, но молча поднесла мне ложку брома. Я удивленно спрашивала, зачем это, и говорила, что я совсем спокойна. Тогда она сказала, что в Штабе идет суд над мужем и чтобы я шла туда. Я не поверила. Ведь мне сказали, что суда не будет. Но она настаивала на том и дала мне в провожатые своего взрослого сына Костю. Мы побежали вдвоем под страшным ливнем. Поднимаясь по лестнице на площадке, в густых облаках табачного дыма я увидела мальчишек-красногвардейцев, довольных, сытых, гогочущих. Спрашиваю: — Правда ли, что судят Меньшикова?.. В ответ взрыв грубого хохота. И сквозь смех вопросы: — Это ученого этого? Это профессора в золотых очках? Да его уже давно расстреляли на берегу озера. Я, как ужаленная, вскрикнула: — Звери проклятые... Толпа бросилась на меня с винтовками. — Ты смотри, — кричали солдаты. — Ты у нас поговори... Но я потеряла сознание и тут же упала, как мертвая. После того, как на меня вылили ковш холодной воды, я очнулась. Я обезумела от горя и ужаса. Мысли мешались. Я то рвалась к озеру, то просилась в тюрьму. Костя Птицын не отходил от меня и отвез домой. Здесь ждало меня новое горе с мучительнейшими переживаниями. Я увидела моих несчастных сирот, измокших, дрожащих, бледных, перепуганных и горько рыдающих. Больше всех убивалась и плакала трехлетняя Машенька. Она ломала крошечные ручонки, горестно твердила, не переставая: «Папочку убили злые люди...» Моя старшая дочь Лидочка, возвращаясь одна из лавки, почему-то пошла не обычным кратчайшим путем, а берегом озера. Подойдя к краю берега, она увидала на земле что-то прикрытое плащом и на вопрос к стоящим тут же людям, что это, бедной девочке ответили: «Твой папа». Лида зарыдала и бросилась бежать домой. Она сказала мне, что и сама узнала папу по сапогам, узнала по его ногам. Непрерывные вопли и плач все время стояли у нас в квартире, включая и прислугу. Бабушка и Лидочка поехали в Штаб просить, чтобы нам отдали тело мужа. Выслушав просьбу бабушки, Давидсон сказал: — Кто что заслужил, то и получил. Бабушка заметила: — Зять мой далеко не то получил, что заслужил. Услыхав ее слова, красногвардейцы стали негодовать и сказали ей: «Ты, бабка, помалкивай, а то и с тобой разделаемся. Бери свое собачье мясо. Нам оно не нужно». Перепуганная Лидочка стала торопить бабушку домой. Тела все равно еще нельзя было получить, т. к. милиция была закрыта. Когда мать моя выходила из Штаба, Давидсон, преисполненный услужливости, вынес ей пальто мужа. И вот настала страшная, убийственная, мучительная ночь. Надо было понять, перенести, пережить эту ночь, понять, что не спасли, дали убить, казнить, Боже, Боже... Утром в Субботу я отправилась в милицию с няней Иришей, где я получила разрешение на выдачу мне тела. Мы вошли в покойницкую при земской больнице. Муж лежал на полу. Голова его была откинута назад. Он лежал с открытыми глазами, в очках. Во взгляде его не было ни тени страха, только бесконечное страдание. Выражение, какое видишь на изображениях мучеников. Правая рука мужа осталась согнутой и застыла с пальцами, твердо сложенными для крестного знамения. Умирая, он осенял себя крестом. Я упала перед ним на колени, положила голову на его израненную грудь и, не помня себя от муки, долго выла и голосила, как простая баба. Я силилась приподнять дорогую мне голову, но не могла. А из окружающих никто не хотел помочь мне. Вероятно боялись. С величайшим трудом мы все же вдвоем с Иришей подняли тело и положили его на дрожки. Я обняла моего покойника и так повезла через весь город. Не знаю, какими словами передать все то, что я чувствовала, убитая горем, беременная, пораженная так неожиданно разразившимися событиями. Я так гордилась мужем, гордилась его умом, душой и талантом, его честностью и правдивостью, его трудолюбием. Как ни чернили его своей клеветой несогласные с ним писатели, все же много было людей понимавших и ценивших его. И за детей я гордилась таким отцом. Я знала, что во всякой другой стране его ценили бы, берегли и оградили. А здесь... За что у меня отняли и так зверски такого мужа, у детей такого отца. Теперь мне осталось только это дорогое, холодное, изувеченное тело человека, с которым я жила одной жизнью. Мы привезли его домой. Ушел под стражей, вернулся холодным трупом. Спасибо соседи мои Степановы помогли мне внести его в дом и положить на стол. Бедные дети, пораженные, испуганные, печальные подошли к нему близко. И все мы вместе плакали. Труп закоченел. Пришлось разрезать одежду, и мы увидели его ужасные раны. Стреляли в сердце. В груди был вырван кусок тела. Мы стали закладывать раны марлей, промывать и забинтовывать их. Убрав тело, мы положили его на стол. Изверги, что они сделали с ним... На второй день, слава Богу, в мое отсутствие зашел к нам Давидсон. Он попросил показать ему покойника, но мама не исполнила его желания. Тогда он повторил: «Кто что заслужил, то и получил». Бабушка спросила его, почему пуля засела в лобной кости, ведь стреляли в сердце. Убийца сказал: — Это сделал я, чтобы прекратить конвульсии... Он сказал еще бабушке, что был поражен героизмом, с которым муж шел на казнь. Мама моя ответила: — Зять мой и не мог идти иначе. Увидав у нас портреты мужа, Давидсон стал просить, чтобы ему отдали один из них. Мама отказала. Няня же Ириша, думая, что он искренно желает получить изображение покойного, вынесла принадлежащий ей фотографический снимок и отдала ему. Его вывесили в Штабе с надписью: «Меньшиков, расстрелянный 7 сентября, как контрреволюционер, вместе с Косаговским и Савиным». Места, где засели пули, на фотографии были также прострелены. Давидсон также спросил мою мать, каково мое материальное положение. На ответ мамы, что очень тяжелое, он заметил, что МЫ позаботимся о детях и поместим их в школы. Он вынул 5 керенок по 20 рублей и протянул их маме для передачи мне. Мама подумала, что это деньги убитого, хотела дать ему квитанцию в получении их, но Давидсон с важностью сказал: — Нет, это мое личное пожертвование, мое пособие вашей дочери. — Простите, но я не посмею предложить ваших денег дочери, — так отвечала мама на его пожертвование, и ему пришлось убрать свои сребреники. Кроме него, к нам из Штаба приезжал еще верховой, сын комиссара Губы. Он отрапортовал, что прислан из Штаба просить у меня цветов из нашего сада для украшения могилы убитого комиссара Николаева. Я сказала, что у меня нет цветов даже для своего дорогого покойника, а если они желают наломать цветов в саду, пусть ломают. Похоронили мы нашего талантливого журналиста и критика очень скромно на кладбище у вокзала. Могилу вырыли у самого алтаря кладбищенской церкви. Дети горько и неутешно плакали, и опять больше всех убивалась и рыдала маленькая Машенька. Заливаясь горючими слезами, она горестно бормотала: — Бедный мой папочка. Бедный, бедный папочка. Глядя на их непосильное детское горе, хоронивший мужа священник тоже плакал. После погребения мужа, я просила копию с приговора суда. Мне ее дали. В этом документе вина мужа была обозначена, как явное неподчинение Советской власти. Зная, что это совсем неправда, я спросила выдавших копию. — В чем же, однако, выразилось это неподчинение. Когда, кому и где он не подчинялся? Мне ответили: — Он подчинялся Совету из-под палки. Место расстрела М. О. Меньшикова И за это убили человека с душой и талантом, конечно, убили не ведая, что творят. И после такой жестокой и возмутительной расправы с моим мужем ко мне еще явился Председатель «ИХ» клуба, заявить, что ему нужны для клуба висячие лампы и люстры. Впрочем, взглянув на мою лампу и вообще на нашу нищенскую обстановку, он сейчас же сконфуженно удалился. В сороковой день после смерти мужа явился ко мне другой военный тоже из клуба, чтобы я отдала им библиотеку мужа. Я сказала, что у покойного не было библиотеки. Остались кое-какие научные книги, которые едва ли пригодятся для клуба. Почему, — обиделся пришедший, — у нас в клубе все высокообразованные люди. Позже я узнала, что на суде мужа был один очевидец, случайно попавший туда. В день суда он проходил мимо штаба и очень удивился, увидев среди красногвардейцев своего бывшего товарища по школе. Он спросил: — Как ты попал сюда? — Из-за хлеба, — отвечал тот, — да и не рад, теперь вот расстреливать людей заставляют. Сегодня Меньшикова поведем. Хочешь послушать суд? Они пошли и сели. Вызвали моего мужа. Он был спокоен. Комиссар Губа прочитал ему приговор к смерти через расстрел. Муж вздрогнул и побледнел. Его спросили: — Что вы имеете сказать? Муж не проронил ни звука и после нескольких минут глубокого молчания его повели на расстрел. Очевидцы мне также рассказывали, что русские солдаты не согласились расстреливать мужа и отказались. Тогда были посланы инородцы и дети — сыновья комиссара Губы. Одному 15, а другому 13 лет. ——— 250 Вот что мы пережили, вот какое страшное горе обрушилось на нас, и так внезапно, так неожиданно. Пришли, схватили, увели, замучили и убили. Казнили за неподчинение Советской власти, ни в чем однако не проявленное и ничем не доказанное. Но судьями были: Якобсон, Давидсон, Гильфонт и Губа... Несчастная наша Родина. Записано со слов М. В. Меньшиковой — Лидией Ивановной Веселитской 22 сентября 1918 г. в «Известиях Всероссийского ЦИК советов рабочих, солдатских и казачьих депутатов Моссовета рабочих и красноармейских депутатов» было опубликовано следующее сообщение: РАССТРЕЛ МЕНЬШИКОВА НОВГОРОД, 21 сентября. Чрезвычайным полевым штабом, в Валдае расстрелян известный черносотенный публицист Меньшиков. При нем найдено письмо князю Львову. Раскрыт монархический заговор, во главе которого стоял Меньшиков. Издавалась подпольная черносотенная газета, призывающая к свержению Советской власти. (РОСТА) |
|
|
|
 8.2.2010, 7:23 8.2.2010, 7:23
Сообщение
#48
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Никола во льдах
Путь во льдах. Рисунок Валериана Альбанова Летом 1912 г. под начальством лейтенанта флота Георгия Львовича Брусилова на судне «Св. Анна» в Арктику отправилась экспедиция, которая состояла из 24 человек, в том числе одной женщины – Ерминии Александровны Жданко, исполнявшей на судне обязанности сестры милосердия. Брусилов предполагал пройти северным морским путем из Петербурга во Владивосток, попутно занимаясь морскими промыслами. Однако уже в октябре судно попало в ледовый плен у берегов Ямала и начало дрейф на север. Как известно, из всей экспедиции на Большую Землю вернулись только два человека – штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Кондрат. Остальные ее члены пропали без вести во льдах вместе с судном. Подвиг штурмана Альбанова, совершившего тяжелый переход примерно в 420 км по дрейфующим льдам к Земле Франца Иосифа, вписан золотыми буквами в историю отечественных полярных исследований. Это путешествие, результаты которого имели большое научное значение, широко освещалось в научной и научно-популярной литературе советского периода, а для писателя Вениамина Каверина Альбанов стал прототипом штурмана Климова в романе «Два капитана». Однако подвиг штурмана – это не только результат его личного мужества, но и еще одно свидетельство помощи св. Николая Чудотворца «плавающим и путешествующим». Обратимся к страницам дневника нашего героя, опубликованного впоследствии под названием «На юг к Земле Франца Иосифа (поход по льду штурмана В. И. Альбанова)».[1] Валериан Альбанов Когда в начале 1914 г. стало ясно, что экспедиции угрожает третья зимовка, было решено, что Альбанов с частью команды покинет судно. Запасы продовольствия, взятые с расчетом на 1,5 года, подходили к концу, и уход части команды позволил бы продержаться остающимся на судне, по крайней мере, до октября 1915 г. Кроме того, между начальником экспедиции Брусиловым и штурманом возникли разногласия, следствием которых стало отстранение Альбанова от исполнения своих обязанностей. Сложившаяся на судне моральная обстановка и другие обстоятельства – недостаток топлива, болезни, страх перед будущим и т.п. – также складывались в пользу отправки части команды на Большую Землю. Идти со штурманом изъявили желание еще 14 человек, и приготовления к предстоящему походу в течение зимних месяцев 1914 г. внесли разнообразие в монотонную жизнь экспедиции. Наконец, все было готово. Отправление назначили на вечер 23 апреля. После прощального обеда Альбанов еще раз зашел в свою каюту, чтобы нанести место отправления на карту и взять свои вещи: «Брал я с собой, кроме того, что было на мне, еще две пары белья, остальное же все платье и белье роздал остающимся: мне это уже не понадобится. Взял я последнюю маленькую вещичку и положил ее в боковой карман – это была маленькая иконка Николая Чудотворца. Моя каюта приобрела пустой, нежилой вид. Бросив последний взгляд на нее, я вышел на лед». Александр Кондрат Провожать путешественников собрались все: «На судне никого не оставалось. Вышел, наконец, и Георгий Львович (Брусилов – С.Х.), и встал позади моего каяка, готовясь помогать тащить его. … Я снял шапку и перекрестился… Все сделали то же. Кто-то крикнул «ура», все подхватили, налегли на лямки, и мы тихо тронулись в наш далекий путь». Провожатые следовали вместе с отрядом несколько дней, а затем вернулись на судно. К вечеру 29 апреля путешественники потеряли «Св. Анну» из виду. На десятый день пути трое матросов решили вернуться обратно. Остальные одиннадцать продолжили свой трудный путь по глубокому снегу и ледяным полям. Полыней, на которых было бы легко плыть на каяках, стреляя по пути тюленей, не было. В начале мая, когда снег стал покрываться коркой, отражающей свет, у всех заболели глаза. Впереди по-прежнему были одни торосы. Тем временем закончились запасы топлива, а на обед остались одни сухари с замороженным маслом. Настроение становилось все хуже, надежда добраться до земли таяла с каждым днем. По словам Альбанова, «безотрадным, бесконечным казался нам наш путь и никогда, казалось, не настанет теплое время года, никогда не доберемся мы до полыней, которых так страстно ждали». Спать ложились все мрачные и молчаливые. И вот тут-то и произошло событие, которое вдохнуло в штурмана новую жизнь. «Утром, - пишет Альбанов в своем дневнике, - я проснулся радостный и возбужденный под впечатлением только что виденного сна. Сейчас же поделился им со своими спутниками, как чем-то действительно радостным, имеющим прямое отношение к успеху нашего путешествия. И спутники мои были заинтересованы и со вниманием слушали меня. Вижу я, будто идем мы все по льду, по большому полю, как шли вчера, и, конечно, тянем за собой по обыкновению свои нарты. Впереди видим, стоит большая толпа людей, о чем-то оживленно между собой разговаривают, которые, по-видимому, кого-то ждут и смотрят в ту сторону, куда и мы держим путь. Ни толпа эта нас, ни мы со своими каяками толпу не удивили. Как будто это дело обычное и встреча самая заурядная. Подходим ближе к этим людям и спрашиваем, о чем они так оживленно рассуждают и кого ждут? Мне указывают на худенького, седенького старичка, который выходил в это время из-за торосов, и говорят, что это предсказатель или ясновидящий, который очень верно всегда предсказывает будущее. Вот, думаю я, подходящий случай, которого не следует упускать. Попрошу я старичка, пусть погадает мне и предскажет, что ждет нас, и доберемся ли мы до земли. Подхожу к нему и протягиваю руку ладонями вверх, как протягивают гадалке, которая по линиям рук узнает будущее. А может быть и не совсем так. Может быть, я их протягивал так, как протягивают руки под благословение, т.е. согнув ладони «в горсточку»… Седенький старичок только мельком посмотрел на мои руки, успокоительно или напутственно махнул рукой на юг и сказал: «Ничего, дойдешь, недалеко уж и полынья, а там»…Я не успел дослушать предсказания старичка и проснулся… Под впечатлением этого сна я так был радостно настроен, что от вчерашнего мрачного настроения не оставалось и следа. Своим одушевлением я увлек невольно и всех спутников моих. Ни одной минуты я не сомневался, что это вещий сон. Что этот старичок-предсказатель был сам Николай Чудотворец, иконка которого была у меня в боковом кармане. Да и те люди, которых видал я во сне, слишком благоговейно смотрели на этого предсказателя. Конечно, я тогда был болен, и галлюцинации накануне, когда я почти в забытье перенесся на набережную Баку, только подтверждают это, но, тем не менее, этот сон, со всеми его мельчайшими подробностями, не выходил у меня из головы всю дорогу, вплоть до мыса Флоры. В трудные минуты я, помимо своей воли, вспоминал успокоительное предсказание старичка. Мои спутники тоже уверовали в этот сон, в особенности после того, как в тот же вечер, совершенно неожиданно для нас, мы оказались около большой полыньи. На этой полынье мы убили нескольких тюленей, давших нам много мяса и жира на топливо. Мы отдыхали, были сыты и счастливы. Мы легко падали духом, но зато немного нам надо было и для счастья…» Прошло несколько дней, и для экспедиции снова наступили трудные времена. 16 мая ушел на разведку и не вернулся матрос Баев. Поиски оказались безрезультатными. Двое спутников Альбанова заболели цингой, запасы продовольствия снова стали подходить к концу. Кроме того, испортилась погода, и в течение 19 дней путешественники не могли определить своего местонахождения. Штурман записывает в дневник: «Пятница 5 июня. Безжизненно кругом. Видели сегодня медвежий след, но старый, должно быть того времени, когда этот молодой лед был ближе к берегу. Бульона Скорикова у нас осталось 6 фунтов, так что мы можем сварить при экономии 12 супов, хотя это будет походить более на воду, чем на суп. Гороху и «жульену» осталось на очень экономных шесть супов. Молока осталось 3 баночки. Шоколад сегодня на отдыхе роздал последний. Придется теперь заменить его в полдень сгущенным молоком, а потом и сушеными яблоками, которых мы еще имеем 2 фунта. …Едим мы, казалось бы, и довольно, но все время голодны. Правда, в большинстве случаем, мы едим почти одни сухари, сдабривая их теми крохами, про которые я упоминал выше. Все время только и слышу здесь и там разговоры про самые вкусные, про самые соблазнительные вещи… Неужели это перед концом, неужели это предчувствие нашей гибели? Но нет, этого не может быть Я уверен, рано или поздно, но мы должны добраться до земли. Слишком ярко я помню тот сон, слишком сильное впечатление произвел он на меня. В пути я стал религиозным, каким раньше не был. Иконка Николая чудотворца постоянно лежит у меня в кармане. Команда сильно упала духом, как я ни стараюсь подбадривать своих спутников». Наступила Троица, которая стала для путешественников настоящим праздником. В дневнике Альбанова читаем: «Воскресенье 7 июня. (Вечером) Сегодня действительно праздник Троицы даже для нас «плавающих и путешествующих»… Когда кончилась вторая полынья, я, пользуясь случаем, вылез на лед взять полуденную высоту солнца. После недолгого вычисления я получил широту 82?21?. Я даже не поверил своим вычислениям, но, проверив, убедился, что все правильно. Великолепно! …Вскоре подошел еще каяк, и я порадовал прибывших хорошей широтой. В ответ и они поздравили меня с праздником, объявив, что дорогой убили медведя. Это ли не праздник для нас. Последнего медведя мы ели на судне в прошлом году, кажется в сентябре месяце, и с тех пор только мечтали об этой дичине. И вдруг, когда у нас так мало осталось провизии, и мы сжигаем на топливо все, вплоть до запасных весел и последней пары белья, правда, полного паразитами, вдруг, в такой критический момент судьба послала нам пудов до десяти великолепного мяса ... Вместе с мясом мы получили и топливо, так как медведь очень жирный. И не странно ли, что этот неожиданный, дорогой подарок послан нам именно тогда, когда мы нуждались в нем и именно в праздник Троицы? Не желает ли провидение подкрепить нас, маловерных и слабых? Не могу описать, какой подъем духа вызвал у нас этот подарок». В течение июня путешественники постепенно все дальше и дальше продвигались на юг. Положение осложнялось тем, что у Альбанова не было хорошей карты, и он не мог определить точно, где они находятся[2]. Самое большое опасение штурмана вызывало отсутствие земли в том направлении, куда они продвигались вместе с дрейфующим льдом. Кроме того, лед переставлялся «ежеминутно, … как будто какие-то великаны на большой доске играют в шахматы». Во время одной из разведок путешественники наткнулись на следы лыж – оказалось, что льдины просто поменялись местом, и отряд обнаружил свои же собственные следы совершенно в другой точке. «Вот и извольте идти по такому льду! … По этому льду даже на разведку ходить далеко опасно: как раз заблудишься». Однако 22 июня на горизонте показалась земля, до которой путешественники с большими трудностями добрались 11 июля. Это оказалась Земля Александры, мыс Мэри Хармсворт (Земля Франца Иосифа). Здесь путешественники нашли записку, оставленную английской экспедицией Джексона - Харсмворта в 1897 г., по которой и определили свое местоположение. Альбанов принял решение продвигаться к мысу Флора, где раньше был лагерь английской экспедиции, и где можно было найти жилье и запасы продовольствия. Партия разделилась: часть путешественников отправились берегом, часть – на каяках. Однако тут для экспедиции настали еще более трудные времена. Один за другим спутники Альбанова стали умирать от цинги. Береговая партия пропала. Путешественников осталось четверо, и они отправились в дальнейший путь на двух каяках. В тумане Альбанов и Конрад потеряли из виду второй каяк, их начало сносить течением, поднялся ветер. Поскольку при сильном ветре продолжать дальнейшее плавание не было возможности, Альбанов и Конрад решили отдохнуть, и, забравшись на вершину айсберга, устроились на ночлег, закутавшись в малицы. Но спать им пришлось недолго. Лед под ними подтаял и обломился, и путешественники оказались в воде. Малицы примерзли друг к другу, и образовали собой мешок, который быстро наполнялся водой. Казалось, что гибель неизбежна. И тут штурман опять вспомнил про свой сон: «Сознание возмущалось, протестовало против гибели: «а как же сон мой? К чему же было то предсказание? Не может этого быть». Пусть мне верят или не верят, но в этот момент мои ноги попали на ноги Кондрата, мы вытолкнули друг друга из мешка, сбросили малицы, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, по грудь в воде. Кругом нас плавали в воде малицы, сапоги, шапки, одеяло, рукавицы и прочие предметы, которые мы поспешно ловили и швыряли на льдину. …Наши ноги были в одних носках, а так как мы стояли на льду, то они почти потеряли чувствительность. … Еще продолжая стоять в воде, я напрасно ломал голову, что же теперь нам делать? Ведь мы замерзнем! Но провидение само указало, что мы должны были делать в нашем положении. Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины льдины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Не упади каяк, или упади он не так счастливо, т.е. прорвись об острый разъеденный водою лед, я думаю, мы пропали бы на этой льдине, плывущей в море. Завернувшись в мокрые малицы, не имея провизии, дрожащие от холода, мы напрасно старались бы согреться, а потом вряд ли у нас хватило бы решимости что-либо предпринять. Но теперь мы знали, что делать. Побросали в каяк мокрые принадлежности туалета, выжали свои носки и куртки, одели их опять, разрубили на куски нарту, взяв несколько кусков с собой и бросив остатки в воду, сели в каяк и давай грести! Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Не так заботясь о быстроте хода, как о том, чтобы хоть немного согреться, мы гребли до изнеможения, и только это, я думаю, спасло нас». Через некоторое время Альбанов и Конрад не без труда добрались до заброшенного лагеря англичан на мысе Флора, где они смогли, наконец, обогреться и подкрепиться. Там они нашли записку, оставленную в 1913 г. экспедицией старшего лейтенанта Седова, а также банки с почтой. Все это навело штурмана на мысль, что за Седовым обязательно придет в этом году судно, в августе месяце, и это предположение со временем превратилось в твердую уверенность. Уверенность эта была столь сильна, что Альбанов так и не вскрыл банки с почтой до прихода судна. «Мне странно и самому теперь, - пишет он, - почему я не открыл эти банки с почтой, которые для того и повешены, чтобы их открыли и прочли письма? Но тогда я спокойно проходил мимо них десятки раз в день и даже не обращал на них внимания». Как впоследствии оказалось, все это было не без Промысла Божия. Судно действительно пришло. Вечером 2 августа Альбанов вышел подышать свежим воздухом и глядел на море, рассматривая моржей. Вдруг он увидел то, что на несколько секунд лишило его дара речи – судно на горизонте: «В следующий момент я уже узнал «Св. Мученика Фоку», которого раньше видал в Архангельске». Встречу с судном штурман описывает так: «Взволнованные, мы побежали готовиться к свиданию с незнакомыми людьми. …Теперь только нужно было …хорошенько умыться,…переодеться, и мы тогда примем совсем приличный вид. Даже сапоги помазали «для виду» жиром. Пошли на берег ожидать появления судна, чтобы плыть к нему навстречу на каяке». Как только из тумана показалось судно, Альбанов сел в каяк и поплыл навстречу. Его тоже заметили, замахали шапками и закричали «Ура!». Штурман подумал, что его приняли за Седова или за одного из его спутников, и закричал: - Я штурман экспедиции лейтенанта Брусилова, покинул «Св. Анну» три месяца тому назад и прибыл на мыс Флора. В ответ послышались возгласы удивления, после чего еще громче пронеслось «ура», к которому я присоединился… Но вот «Фока» стал на якорь, и я поднялся на палубу… Приняли меня эти люди очень сердечно…Узнав о пропаже моих спутников, прибывшие выразили живое участие и решили сходить к мысу Гранта, когда окончена будет погрузка дров на судно. Скоро перевезли с берега Кондрата и нас пригласили в салон ужинать». Прибывшие на «Фоке» удивились, что Альбанов не прочел их писем, оставленных в банках около дома на мысе Флора, а он, в свою очередь, никак не смог объяснить, почему он этого не сделал. «Пришло, правда, мне в голову, - пишет штурман, - следующее соображение. Из писем я узнал бы, что «Фока» зимует у острова Гукера в 45 милях от мыса Флора. Что бы я сделал тогда? Конечно, мы отправились бы с Кондратом туда, так как побоялись бы, что «Фока» оттуда пойдет прямо в море, без захода на мыс Флора. Пошли бы мы на каяке,…не ранее начала августа, т.е. тогда, когда я оправился от своей болезни настолько, что мог плыть на каяке. Путь мы выбрали бы, конечно, по западную сторону острова Нордбрук…., а восточный проход был для нас незнаком. … «Фока» же пришел именно этим восточным проходом 2 августа, так что мы с ним разошлись бы дорогой». Судя по всему, святитель Николай в очередной раз помог штурману и уберег его от неверного шага, который бы мог привести его и матроса Конрада к гибели. 7 августа «Фока», пополнив запасы топлива и провизии, отправился в море. Сначала решили попытаться пройти к острову Белль и мысу Гранта, где могли оставаться спутники Альбанова, но, к сожалению, ни людей, ни даже следов их пребывания не было видно. 20 августа после тяжелой борьбы с льдами «Св.Фока» вышел, наконец, в свободный океан. У рыбацкого становища Рында на Мурмане «Фоку» взяли на буксир два моторных бота и привели в становище. На следующий день в Рынду зашел пассажирский пароход «Император Николай II», следовавший в Архангельск. У полярников не было денег, но командир парохода г. Вальнев, по словам Альбанова, «был так любезен, что согласился не только бесплатно доставить нас до Архангельска, но и в «долг» кормить нас дорогой. Так как пассажиров на пароходе было очень много, …то г. Вальнев для четверых из нас уступил одну из своих кают, в которой мы с комфортом и доехали до Архангельска». Тяжелый четырехмесячный путь со «Св. Анны» был окончен 1 сентября 1914 г. Валериан Иванович Альбанов сохранил и доставил на Большую Землю копию судового журнала «Св.Анны», содержавшего ценные научные данные о высоких широтах Арктики, и записи метеорологических наблюдений. Таким образом, благодаря Альбанову и его вере в помощь и предстательство святителя Николая Чудотворца труды экспедиции не пропали даром. -------------------------------------------------------------------------------- [1] В написании этой статьи использовано переиздание дневника Альбанова в книге: Н.В. Пинегин (отв.ред.). Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л. Брусилова на зверобойном судне «Св. Анна». Издание Всесоюзного Арктического института, Ленинград, 1934 г. Впервые дневник был напечатан в приложении к журналу «Записки по гидрографии», 1917 г., т. XLI, вып. 4–5. [2] Единственным «путеводителем» Альбанова в его путешествии была примерная карта Земли Франца Иосифа, составленная Фритьофом Нансеном во время его неудавшегося путешествия к Северному полюсу в 1897 г. На этой карте, которая оказалась непригодной для практического использования, были также обозначены Земля Петермана и Земля короля Оскара, в существовании которых были уверены почти все западные географы. Путешествие Альбанова полностью развенчало миф о существовании этих островов. Светлана Хоркина |
|
|
|
 8.2.2010, 20:39 8.2.2010, 20:39
Сообщение
#49
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Знамя царя Василия Шуйского
в музее кн. Чарторыйскиx в Кракове (S. Dranitzyne: Banniere du Tsar Wasily Chouiski au musee des princes Czartoriski а Cracovie). 24 июня 1610 года произошла большая битва при деревне Клушино между русскими войсками, под предводительством князя Димитрия Шуйского, родного брата царя Василия, и поляками под начальством гетмана Ст. Жолкевского, канцлера Речи Посполитой. Раз¬битый на голову, Д. Шуйский бежал с поля сражения, оставив обоз, знамена и боевые припасы в руках неприятеля. Это страшное поражение, вместе с потерей всего войска, с иноземной пехотой и конницей, оставило без защиты Москву и привело к гибели династию Шуйских. Через три недели после Клушинской битвы, 17 июля, свояк царя Василия, князь И.M. Воротынский с «заводчиками» вывезли Шуйского из дворца на его старый 6оярский двор и арестовали его братьев, а 18 июля постригли царя насильно в монахи. В письме победителя при Клушине, гетмана Жолкевского, на имя короля Сигизмунда III, написано: «фальконетов в мои руки дошло семь, но и те с трудом были привезены, ибо я не имел на чем везти их. Знамен осталось несколько десятков, в числе которых и Бутурлина, начальствовавшего передовым войском, также хоругвь самого Шуйского, весьма отличная, штофная, с золотом»[1]. В музее князей Чарторыйских в Kpакове находится прекрасно соxранившeеся громадное знамя-хорyгвь, причем в архивном ка¬талоге записано, что эта хоругвь была взята в битве при Клушине, в 1610 году. Лицевая сторона знамени сохранилась лучше, чем обращенная к стене. Эта редкая историческая реликвия является очень ценной для нашей иконографии, представляя чудный образец живописи, принадлежащей кисти одного из лучших придворных мастеров эпохи Смутного времени. Имени или имен художника не сохранилось на па¬мятнике. Между тем, эта хоругвь отражает влияние греко-итальянской живописи. Особенно характерная для позднейшей греческой иконописи итальянская манера драпировки в одеждах или, точнее, переработка византийской схемы складок по итальянскому (флорентийскому) образцу видна в одеяниях Богоматери и Младенца. Складок немного, их широкий, покойный характер отличается мягкостью целого, причем лиловатые отливы шелковой одежды Богоматери и желтоватые блики одеяния Христа напоминают Джентиле Беллини.[2] Поднятый Иоанном Грозным вопрос о допустимости изображений на иконах лиц не святых был разрешен Стоглавым Собором так, как того хотелось царю. При Борисе Годунове особенный характер придавали росписи помещенные на видном месте портреты Фео¬дора Иоанновича и царя Бориса.[3] На нашей хоругви мы тоже видим на обратной стороне, вправо от зрителя, изображение царя Василия Шуйского, сидящего на троне, с венцом на голове, причем его одежда, поза, особенности царского окружения и принадлежности царского сана напоминают то описание, которое делает Симон Ушаков относительно портрета Феодора Иоанновича.[4] Следовательно, пред нами, по-видимому, один из редких памятников московской школы начала XVII века. Изображения на стяге ангелов напоминают своей окраской одеждой и лицами лучшие иконы работы Никифора Савина, сына Истомы, и Прокопия Чирина. Что касается трона, на котором сидит Богоматерь, то последний совпадает по своему стилю с строениями, изображенными на иконе «Стретения Гоcподня» Строгановской школы (1600 года).[5] Знамя Шуйского сохраняет в себе те же удлиненные пропорции фигур ангелов и святых, ту же несколько преyвеличенную грацию поз и поворотов, а главное ту же красивую расцветку, что и иконы упомянутой школы. Eще более сходства наблюдается в стремлении к декоративной орнаментации, что заметно на о6рамлении хоругви, сделанном с большим вкусом, в особенности на цветочных украшениях. Предположение, что это знамя было написано одним из предста¬вителей Строгановской школы, подтверждается тем соображением, что строгановские живописцы работали не только на Строгaновых, но также и на московский Двор и гордились приобретенным званием придворных иконописцев. В то же время, в период царствования Василия Шуйского (1606—1610) особенно много работал упомянутый Никифор Савин. Конечно, это только догадка. Но сохранить снимок для русской иконографии и искусства считаем своей обязанностью, тем более, что лучшие и редкие произведения, по сообщению газет, вывезены из музеев Кракова, по приказанию австрийского правительства, неизвестно куда. С. Драницын. |
|
|
|
 10.2.2010, 1:58 10.2.2010, 1:58
Сообщение
#50
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Великая княгиня Елена Павловна - предшественница Флоренс Нантингейл
8 ноября 1854 года утвержден устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, основанной по инициативе великой княгини Елены Павловны. Первые 35 сестер милосердия отправились в Севастополь для участия в Крымской войне. Великая княгиня Елена Павловна в числе сестёр милосердия, середина 1850-х годов Жетон Крестовоздвиженской общины сестер милосердия Красного Креста А. Граль. Портрет великой княгини Елены Павловны. Около 1830 К.Брюллов Великая княгиня Елена Павловна с дочерью “…если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Еленой Павловной…” Основатель Международного Комитета Красного Креста Анри Дюнан, 1896 г. «Это женщина с обширным умом и превосходным сердцем. На её дружбу вполне можно положиться, если она раз удостоит ею. Воспитанная под надзором Кювье, друга её отца, принца Вюртембергского, она сохранила воспоминания о всём, что видела и слышала в молодости. Выданная молодой замуж, она не переставала изучать науки и быть в сношениях со знаменитостями, которые приезжали в Петербург или которых встречала во время своих путешествий за границей. Разговор её с людьми сколько-нибудь замечательными никогда не был пустым или вздорным: она обращалась к ним с вопросами, полными ума и приличия, вопросами, которые просвещали её… Император Николай Павлович говорил мне однажды: «Елена – это учёный нашего семейства; я к ней отсылаю европейских путешественников. В последний раз это был Кюстин, который завёл со мной разговор об истории Православной Церкви; я тотчас отправил его к Елене, которая расскажет ему более, чем он сам знает…». Граф П.Д. Киселёв Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-Мария) - русская великая княгиня (1806 - 1873), дочь вюртембергского принца Павла-Карла. Любитель рассеянной жизни и человек беспокойного характера, принц не мог ужиться со своим братом-королем и переселился в Париж, где отдал дочерей в пансион госпожи Кампан. Систематическое и разумное воспитание заменило здесь для десятилетней девочки самодурство и суровость угрюмой бабки, дочери Георга III английского, и жестокие воспитательные эксперименты отца. Дружба их с обучавшимися у Кампан девицами Вальтер, родственницами знаменитого Кювье, бывшего в это время директором Jardin des Plantes, дала последнему возможность оценить живой, проницательный и жадный к знанию ум юной принцессы, которую он приглашал к себе нередко на воскресенья и праздники. Долгие беседы с великим ученым, его рассказы и указания, прогулки с ним по Jardin des Plantes, знакомство с разнообразными проявлениями и произведениями природы стали благотворной школой для умственного и нравственного развития девушки; покинув через четыре года Париж, она продолжала вести с Кювье оживленную переписку. Ей не было еще шестнадцати лет, когда император Александр I письменно просил ее руки для своего брата Михаила Павловича . Императрица Мария Федоровна , по почину которой был сделан этот выбор, постоянно относилась к Фредерике-Шарлотте, нареченной 5 декабря 1823 г. Еленой, с искренним расположением и полным доверием. На пути в Россию, будущая великая княгиня выучилась настолько основательно русскому языку, что могла прочесть в подлиннике "Историю Государства Российского" Карамзина . Супружество Елены Павловны продолжалось около двадцати шести лет и не было лишено терний: она потеряла четырех дочерей, да и характеры супругов были противоположны. Великий князь Михаил Павлович соединял в своем лице представителя неумолимого служебного долга и блюстителя строжайшей дисциплины, понимаемых крайне узко, мелочно и формально, - и человека с острым, иронически настроенным умом и порывами доброго в сущности сердца. "Суровость его лица и взгляда из-под нахмуренных бровей, - говорится в записках князя Имеретинского, - резкая манера выговаривать и неумеренная строгость взысканий за маловажные проступки - все это было вынужденно, ненормально и свойственно только видимому, а не истинному характеру Михаила Павловича". Выдающиеся свойства ума и тонкая сердечная деликатность великой княгини, выражавшиеся в умении ставить себя в положение других, разделяя и понимая их интересы, способность делать это с чарующей простотой, сразу уничтожавшей условность и натянутость отношений, чуткость в симпатиях и верность в дружбе завоевывали ей преданность всех встречаемых и отыскиваемых ею на жизненном пути. До конца своих дней она интересовалась всеми явлениями в области знания и умственной деятельности, часто приходя, где было нужно, на помощь своим участием, содействием и материальной поддержкой. Ее живо занимала деятельность университета, Академии Наук, Вольного Экономического общества. Она имела долгие беседы с профессором Арсеньевым , желая ближе познакомиться с историей и статистикой России; вела богословские разговоры с епископом Порфирием Успенским и с архиепископом херсонским Иннокентием , который, по его словам, был "удивлен и почти унижен" сознанием, что великая княгиня, близко зная историю и основания православия, захватила его некоторыми вопросами врасплох и вынудила у него просьбу дать ему время справиться для категорического ответа. Она заказала через Юрия Федоровича Самарина профессору Беляеву исследование о началах представительных учреждений в России. В ее покоях встречали в высшей степени внимательный и ласковый, сознательно обдуманный прием Гумбольдт, барон Гакстгаузен, Кюстин, Бэр , Струве , граф Виельгорский , князь Одоевский , Тютчев, граф Блудов , Ланской , Чевкин , князь Горчаков , граф Муравьев-Амурский , Киселев и другие. Она никогда не замыкалась в узкий кружок приближенных придворных, признавая, что "маленький кружок, который, приносит великий вред: он суживает горизонт и развивает предрассудки, заменяя твердость воли упрямством. Сердцу нужно общение только с друзьями, но ум требует новых начал, противоречия, знакомства с тем, что делается за стенами нашего дома". Наряду с устройством в залах ее дворцов под ее руководством блестящих празднеств, отличавшихся особым вкусом и оригинальностью, она создала нейтральную почву, на которой могла встречаться с интересовавшими ее людьми, не ставя этого в зависимость от обычных условий придворной жизни и приглашая их в свой дворец от имени княжны Львовой или княгини Одоевской. Император Николай выражал Елене Павловне особое внимание, называя ее le savant de famille, нередко советовался с ней в семейных делах и, при всей своей самостоятельности, прислушивался к ее мнению. Ей доставляло истинную радость "подвязывать крылья" начинающему таланту и поддерживать уже развившийся талант; ею даны были средства Иванову на перевозку "Явления Христа" на родину и на снятие с него дорого стоивших фотографических снимков; ей обязан И.Ф. Горбунов ласковым приемом в петербургском обществе и принятием на казенную сцену; она обратила внимание на выдающийся голос Никольского и содействовала тому, что безвестный певчий придворного хора стал знаменитым тенором русской оперы; Антон Рубинштейн всю жизнь с восторгом вспоминал о ее плодотворном покровительстве и задушевном к нему отношении. Под влиянием музыкальных вечеров великой княгини зародилась мысль об учреждении Русского Музыкального Общества и его органов - консерваторий. За осуществление этой мысли Елена Павловна взялась со свойственной ей пылкостью и настойчивостью, принеся для того личные материальные жертвы и даже продав свои бриллианты. Просветительная и благотворительная деятельность великой княгини получила широкое развитие. Императрицей Марией Федоровной ее управлению были завещаны повивальный и Мариинский женский институты, затем к ним присоединилось училище святой Елены, впервые устроенное без принятия во внимание сословных различий воспитанниц. Потом она основала в память своих дочерей Елисаветинскую детскую больницу в Петербурге и детские приюты Елисаветы и Марии в Петербурге и Павловске и совершенно преобразовала и расширила Максимилиановскую лечебницу для приходящих, создав в ней отделение для постоянных кроватей. Во всех этих учреждениях и ряде других она была не просто высокой покровительницей, а деятельной и озабоченной их успехом силой, умевшей всех вокруг одушевлять и объединять, не подавляя никого своей личностью и возбуждая в каждом радостное сознание общей работы на общую пользу. Главным ее личным делом было учреждение Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Нравственно поддержанная в своей мысли Пироговым , несмотря на тайные и грязные насмешки и явное противодействие со стороны высшего военного начальства, она сумела убедить императора Николая в полезности нового начинания и создала первую по времени военную общину сестер милосердия. Работа по проведению в жизнь этого учреждения, во все подробности которого она входила лично, соединила ее с Пироговым узами прочной дружбы, первое основание которой было положено еще в 1848 г., когда, узнав, что не знакомый ей лично Пирогов, вернувшийся после тяжелой полугодовой работы на Кавказе, получил резкий выговор от военного министра князя Чернышева за какое-то отступление от формы в своем мундире, она вызвала его к себе и нежным вниманием к великому ученому возвратила ему бодрость духа и отвлекла его от мысли подать в отставку. Последней великодушной мечтой Елены Павловны было устройство Клинического Института, в котором врачи могли бы, по окончании курса и по занятии врачебной практикой, слушать лекции по интересующим их специальным предметам, знакомясь с современным состоянием и успехами медицинских наук. Она предназначила на это особую сумму и выхлопотала у государя землю на Преображенском плацу. Смерть не дала ей возможности дожить до осуществления ее замысла и видеть возникший при деятельном участии ее врача Э.Э. Эйхвальда "Еленинский Клинический Институт". Наиболее важную историческую заслугу Елены Павловны перед Россией составило ее участие в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости. Приехав в Россию, она застала крепостное право в широком и непоколебимом, по-видимому, развитии. Царствование Николая I прошло в слабых попытках преобразования, а не упразднения крепостного ига; не дальше шло и учреждение министерства государственных имуществ, с П.Д. Киселевым во главе. В намерения и цели последнего входило, однако, повсеместное освобождение крестьян в России. Своими мыслями по этому поводу он делился с великой княгиней, уважением которой он пользовался, а она, в свою очередь, в качестве старшего по летам и по житейскому опыту члена императорской фамилии, внушала эти мысли Александру II . Первые шаги молодого государя были, однако, направлены по старому пути: был образован негласный комитет, и в известной речи государя московскому дворянству сделана попытка вызвать добровольное, по собственному почину помещиков, отречение их "от существующего порядка владения душами". Когда из доклада министра внутренних дел Ланского стало ясно, что дворянство такого почина на себя принимать не желает, ссылаясь на отсутствие начал, на которых можно было бы освободить крестьян, великая княгиня решилась лично показать, на каких началах можно устроить улучшение быта крестьян, как основание для дальнейшего преобразования крестьянского быта в широких размерах. Задумав отпустить на волю крестьян своего обширного имения Карловка в Полтавской губернии (12 селений и деревень, 9090 десятин, с населением в 7392 мужчины и 7625 женщин), предоставив им выкупить часть состоявшей в их пользовании земли, в размере, который обеспечивал бы их существование, она выработала, совместно со своим управляющим бароном Энгельгардтом , план разделения Карловки на четыре общества, с собственным управлением и судом и с отдачей им одной шестой части всей помещичьей земли, с платой в год по два рубля за десятину и с правом выкупа земли взносом, с рассрочкой, 25 рублей с десятины. В это время она сблизилась, по рекомендации Киселева, с Н.А. Милютиным . Поддерживая Елену Павловну своими советами и составляя ей записки для поднесения государю, Милютин выработал план действий для освобождения в Полтавской и смежных губерниях крестьян, в марте 1856 г. получивший предварительное одобрение монарха. Согласно этому плану, великая княгиня обратилась к помещикам Полтавской губернии В.В. Тарновскому, князю А.В. Кочубею и другим, с призывом содействовать ей своими сведениями и соображениями выработке общих оснований освобождения крестьян в Полтавской, Харьковской, Черниговской и Курской губерниях, и затем основанную на их замечаниях и окончательно обработанную Кавелиным записку передала великому князю Константину Николаевичу , вступив с ним по этому поводу в оживленные сношения. С этого времени дело освобождения крестьян, практическая возможность и осуществимость которого доказана была великой княгиней на ее Карловке, уже всецело направляется Милютиным и великим князем. Против обоих образуется сильная партия, сосредоточившая свои главные нападения, прямые и косвенные, проникнутые мнимым опасением гибельных переворотов и клеветой, на Милютине. Великая княгиня старалась всеми мерами дать государю случай ближе узнать Милютина и увидеть его в настоящем свете. У себя на вечере она представляет Милютина императрице и дает ему возможность иметь с государыней длинный разговор об освобождении крестьян; знакомит его с князем Горчаковым ; подготовляет в феврале 1860 г. у себя в Михайловском дворце встречу и длинный разговор государя с Милютиным о трудах редакционной комиссии; старается установить между Милютиным и великим князем Константином Николаевичем доверчивые и сочувственные личные отношения; сообщает ему о каждом разговоре своем с государем, имеющим отношение к делу освобождения, и постоянно, письменно и словесно, старается поддержать в нем бодрость и веру в успех, говоря ему словами Писания: "Сеющие в слезах пожнут с радостью". Когда после освобождения крестьян Ланской и Милютин остались не у дел, она старалась сберечь Милютина для дальнейшей полезной деятельности и до конца его жизни оставалась ему преданным другом. Главные сотрудники Милютина - князья Черкасский и Юрий Самарин - были постоянными ее посетителями и в разгар работ редакционной комиссии, летом 1859 и 1860 гг., жили в ее дворце на Каменном острове. Введение земских учреждений и судебная реформа привлекли к себе внимание и безусловную симпатию великой княгини. Она живо интересовалась первыми шагами новых учреждений и очень горячо принимала к сердцу слухи о том, что после падения министра юстиции Замятнина, Судебным Уставам может грозить серьезная опасность. Но всего более мысли ее обращались к дальнейшей судьбе крестьянской реформы. Она просила Самарина написал "Исторический очерк крепостного состояния в его возникновении и влиянии на народный быт", а также историю освобождения крестьян и значения его в народной жизни, находя, что для этого автору достаточно лишь "заставить себя мысленно пережить эпоху славной борьбы". Графиня Блудова так характеризует в своих записках Елену Павловну: "Еще 45 лет назад я в первый раз увидела ее и эту стремительность походки ее, которая поражала как особенность внешняя, привлекательная, как живое радушие. Эта стремительность была лишь верным выражением стремительности характера и ума ее, стремительности, которой она увлекала все мало-мальски живые умы, которые ее самую иногда увлекала и приводила за собой не мало разочарований, но сама по себе была очаровательна. Ни лета, ни болезнь, ни горе не изменили этой особенности". Она скончалась 9 января 1873 г. |
|
|
|
 11.2.2010, 2:28 11.2.2010, 2:28
Сообщение
#51
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Гибель «Курска»: последнее интервью капитана подлодки
9 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск», проводившая учения в Баренцевом море. Командовал кораблём капитан 1-го ранга Г. П. Лячин, всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Последнее интервью Геннадия Лячина - Геннадий Петрович, как случилось, что волгоградские степи вдруг подарили Военно-морскому флоту России морского волка, командира суперсовременной субмарины? Может, родители в том виноваты ? - Нет, родители мои никакого отношения к морской службе не имели, кроме того только, что отец воевал. Но вот со школьной скамьи, подружившись со своей будущей женой, я познакомился и с ее отцом, бывшим военным. Он начинал службу еще юнгой, всю жизнь провел на флоте, с любовью к нему относился, много и с упоением рассказывал мне о флотской жизни, традициях. И как-то все это меня увлекло, стал много читать о флоте, а после окончания школы уже твердо решил: буду поступать в военно-морское училище. Ну, а уже подплав, как службу наиболее сложную и ответственную, как настоящую мужскую работу, выбрал сам и без колебаний. И вот уже 23 года служу в Видяеве, в дивизии именных атомных подводных лодок-ракетоносцев. Участвовал в нескольких дальних боевых походах. - Расскажите, пожалуйста, о последней автономке. - Побывали в южных широтах Атлантики, в Средиземном море. Если раньше там у нас было целое объединение, включавшее управление подводными силами в этом регионе, свои базы, куда можно было зайти для пополнения запасов, заняться при необходимости ремонтом, дать отдых личному составу, то сейчас такой структуры нет. Лодка новая, и в первом же ее автономном походе наиболее важно было проверить, насколько окажутся надежными ее материальная часть, все жизненно важные системы, особенно в сложных условиях большого противостояния противолодочных сил флотов НАТО. В этой связи испытание на зрелость и стойкость проходил и сам экипаж. А задача была – поиск и слежение за авианосными и ударными группировками потенциального противника. Предстояло узнать все: состав его сил, маршруты развертывания, переходов, характер деятельности и многое другое. - Реально проявлялось противоборство с противником или вы были лодкой-невидимкой, сродни Летучему голландцу, и просто курсировали по морским глубинам, никому не мешая, в качестве подводного разведчика? - Разумеется, задача скрытности передвижения всегда стоит перед подводниками. Но в этом походе было всякое: И мы не давали спокойной жизни многочисленным силам противника, и к себе ощущали, мягко говоря, повышенное внимание. Нам пытались активно противодействовать в первую очередь патрульная противолодочная авиация, а также надводные корабли и подводные лодки. Мы их своевременно обнаруживали, но случалось, что и они нас засекали. У них задача была – установить за нами длительное устойчивое слежение, что мы им постоянно срывали. - Надо полагать, что сопутствовала тому не только соответствующая выучка экипажа, но и тактико-технические возможности подводного крейсера-ракетоносца ВМФ России? - Разумеется. Корабль наш вообще, можно сказать, уникальный, имеющий перед подлодками противника целый ряд преимуществ. К тому же такой класс кораблей, совмещающих торпедное и ракетное оружие, у них вообще отсутствует. У нас оружие превосходит их образцы и по мощности, и по дальности радиуса действия, и по спектру своих возможностей, поскольку при необходимости мы имеем возможность одновременно атаковать из глубин океана множество целей: то есть наносить удары по наземным объектам одиночным кораблям и крупным их соединениям. Кроме того, лодка имеет хорошую маневренность, высокую скорость движения в подводном положении. - Как известно, на момент вашего похода была достаточно накаленной военно-политическая обстановка в регионе югославского конфликта и во всем Средиземноморье. Наверное, это обстоятельство сказывалось и на вашем походе, усложняло его задачи? - Да, конечно. Но при этом весьма интересно, что (как стало нам известно уже после возвращения на родную базу) страны Средиземноморья, такие, например, как Франция, Греция и Италия, приветствовали Российский военно-морской флаг в Средиземном море, которое американцы, форсируя там свое военное присутствие, хотели бы считать своим владением, хотя у него статус открытого международного моря. - Автономный режим плавания, думаю, вовсе не означал, что родная база, руководство флота были в неведении: где вы, все ли живы и здоровы и как вообще проходит выполнение боевой задачи? - Нет, мы в назначенное время имели постоянную устойчивую связь с базой, производили обмен информацией и в этом плане не чувствовали никакой оторванности. Все без исключения члены экипажа спокойно и уверенно исполняли каждый свою задачу. Хотя, конечно, были напряженные моменты, когда после сеанса связи мы принимали целеуказание, и лодка была готова к выполнению самых неожиданных маневров и вообще боевых задач, когда, образно говоря, руки были на кнопках пуска. - Геннадий Петрович, известно, что, учитывая высокую результативность похода, вас лично принял для доклада сначала командующий ВМФ России, а после даже председатель правительства, и.о. президента страны В. В. Путин. Как прошла эта встреча? - Владимир Владимирович внимательно выслушал короткий доклад о походе, задал несколько вопросов и высказал удовлетворение миссией экипажа атомного подводного ракетного крейсера ‘Курск’ в Атлантике и Средиземноморье. Высокая оценка дана также главкомом ВМФ и Министерством обороны России. В частности, отмечалось, что благодаря хорошей всесторонней подготовке к походу самого корабля и его экипажа в автономном плавании при выполнении боевых задач не было никаких внештатных, экстремальных или аварийных ситуаций. А противник был вынужден, бросив на поиски нашей лодки все свои силы, понести колоссальные затраты сил, средств и материальных ресурсов. Только топлива на поиски нашей лодки им было истрачено на 10,5 миллиона долларов, да плюс с иными расходами поиски и попытки слежения за нашей лодкой обошлись в 20 миллионов долларов. Главный же вывод был таким: Россия не утратила возможности в целях собственной безопасности и своих национальных интересов обеспечивать свое активное военное присутствие во всех точках Мирового океана, и по-прежнему ее атомный подводный флот является надежным ракетно-ядерным щитом нашей великой морской державы. На этом наш разговор с командиром атомного подводного ракетного крейсера Курск капитаном 1 ранга Геннадием Лячиным и закончился. Он рассказал обо всем, кроме одного: умолчал, что сам он за достигнутые результаты в этом уникальном боевом походе представлен к званию Героя России. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, будущий Патриарх Московский и всея Руси в интервью Комсомольской правде в 2000 году сказал следующее: - В эти скорбные для страны и народа дни Русская православная Церковь молится об упокоении душ погибших моряков в селениях праведных. Священноначалие Церкви, клирики и все православные верующие сопереживают горю родных и близких моряков. Но слово Церкви в этих трагических обстоятельствах будет не только словом сопереживания и утешения. Оно будет также словом обещания и надежды. Это слово может сказать скорбящим только Церковь Божия. Ибо она верует, что у Бога все живы, потому что жив Христос, Который был распят, умер и воскрес. Спаситель победил смерть, даровав верующим в Него жизнь вечную. И потому личное бессмертие – духовная реальность нашего существования. Быть христианином означает прежде всего принимать эту реальность сердцем и умом. Человек не умирает с прекращением жизнедеятельности его физического организма. Не умирает он в тот момент, когда медики фиксируют остановку сердца. Не умирает и тогда, когда вода заполняет его легкие, вытесняя остатки воздуха. Человек не способен умереть, исчезнуть без остатка, превратиться в ничто, потому что создан по образу и подобию Самого Бога, в Котором – бессмертие. Трагедия в Баренцевом море многому должна научить нас. Прежде всего тому, что человеческое горе ни при каких обстоятельствах не должно эксплуатироваться в чьих-либо частных или групповых интересах, когда потрясшая страну трагедия разыгрывается как карта в политической игре. Подобные намерения очевидно безнравственны. Не менее прискорбно, когда в порыве, быть может, объяснимого и праведного гнева одни люди заочно обвиняют и судят других, вынося приговор на основании собственного представления о том, кто и где должен был быть и что конкретно делать. Ныне страна едина в своей скорби. Давайте же будем достойны обрушившегося на нас несчастья. Ибо совместно переживаемая трагедия должна сплачивать, а не разделять нацию. Уверен, что в свой последний час наши моряки, погибавшие в пучине студеного моря, были сплочены и едины перед лицом общего испытания. Ныне Отечество наше, как никогда, нуждается в соединении всех людей. Заключает она урок и для власти, облеченной правом принимать решения от имени миллионов наших сограждан. Она обязана сделать все, чтобы участь атомной подлодки «Курск» не стала зловещим символом будущего, ожидающего Россию. Сегодня все понимают: жить так, как мы жили до этого момента, больше нельзя. Вспомним наконец, что мы великий народ, обладающий всем, что необходимо для достойной жизни. Пришло время сказать себе: пора остановиться, начать новый отсчет времени. Трагедия в Баренцевом море стала последним рубежом. Дальше нам отступать некуда. И последнее. Таинственное, мистическое сочетание и соединение событий – гибель ракетоносца и прославление новомучеников и исповедников Российских XX века Юбилейным Архиерейским Собором нашей Церкви. У Бога ничто не случайно, В этом совмещении событий видится некое смыкание времен. Ведь угодники Божии, как известные по именам, так и не явленные миру, но ведомые Господу, отдали свою жизнь за Христа, за веру, за Церковь, за Родину, ибо все они были великими патриотами России. Экипаж подводной лодки «Курск» принял мученическую смерть и принес высшую воинскую жертву во имя любви и верности Отчизне. |
|
|
|
 13.2.2010, 4:08 13.2.2010, 4:08
Сообщение
#52
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
ДЕД ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА ПОХОРОНЕН В ХЕЛЬСИНКИ
«Упокой, Господи, души усопших. Памяти мученически погибших чинов Балтийского флота в марте в Гельсингфорсе...» - выгравировано на памятной доске в Успенском соборе Хельсинки, установленной в 1997 году к 80-летию мученической кончины морских офицеров российского флота. На ней написаны имена всех морских офицеров, погибших в марте 1917 года, - от адмиралов до боцманов и кондукторов. В самом конце списка приведены фамилии трёх мичманов и лейтенанта с линкора «Петропавловск», убитых в августе т.г. Долго я не мог понять, почему кровавая волна убийств, начавшаяся в марте, но в марте же и закончившаяся, вдруг снова вспыхнула в августе. И почему всё произошло на одном линкоре, где погибли 4 молодых офицера. Так и осталось бы это для меня тайной, если бы из Москвы не раздался однажды телефонный звонок. Звонила редактор телепрограммы «Моя родословная». Она сказала, что дед известного киноактёра Дмитрия Харатьяна, лейтенант Б.П. Тизенко, погибший в августе 1917 года, похоронен в Хельсинки на Ильинском кладбище, но найти его могилу они не могут, и не мог бы я помочь найти её, т.к. съёмочная группа прибывает скоро в Финляндию на съёмки. Где были похоронены 4 молодых офицера, я знал, и найти среди них могилу лейтенанта труда мне не составило. Через два часа её фотография была уже в Останкино. Вскоре на вокзале я встречал Дмитрия Харатьяна со съёмочной группой. Он приехал в Хельсинки со своей мамой, Светланой Олеговной. Они никогда не бывали в Финляндии ранее. Сразу же пошли в Успенский собор, где прочитали молитвы перед иконой Николая чудотворца. Той самой, перед которой читал молитвы их дед. Узнали историю собора. На памятной доске прочитали фамилии морских офицеров, принявших свой мученический конец, среди которых был и их дед и дядя. Уже выходя на улицу, Дмитрий сказал мне, что ранее такого красивого собора за рубежом он не видел. Мы направились на Ильинское кладбище, а меня попросили рассказать историю того, как и где случилась та трагедия. За что убили молодых офицеров и кто был способен на такое святотатство? Ещё до приезда актёра я провёл изыскательскую работу. Мне помогали историки, писатели. Так передо мною встала картина кошмара того времени, которую я рассказал Дмитрию и его маме и которую я хотел бы привести здесь полностью. 26 августа 1917 года в Петрограде вспыхнул корниловский мятеж, который вскоре был подавлен, но корабли Балтийского флота, находящиеся в Гельсингфорсе, участия в нём не принимали. И тем не менее на всех судах были проведены матросские собрания, которые приняли резолюции Центробалта. На линкоре «Петропавловск» было также проведено собрание, где судовой комитет вынес Корнилову смертный приговор, а офицеров обязал дать подписку о неподчинении генералу Корнилову и в том, что они будут исполнять только распоряжения советов. Подписались все офицеры, но с некоторыми пунктами были не согласны мичманы Кондратьев, Кандыба, Михайлов, а также лейтенант Тизенко. Среди матросов началось брожение. Некоторые из них требовали смертной казни несогласных. Офицеров арестовали, но во избежание самосуда их решили отправить на берег. Вечером подали катер, куда были посажены арестованные под конвоем шестнадцати матросов, в состав которого входили гальванер Мамонов (бывший сельский учитель) и матрос Гилев. Арестованных следовало доставить на Эспланадную пристань и сдать представителям Центробалта. Но вместо этого катер направился на Елизаветинскую пристань (угол Liisankatu и Pohjoisranta). Офицерам объявили, что они будут расстреляны. На подходе к пристани мичман Кондратьев прыгнул через головы конвоя в воду и стал кричать о помощи. Его крик был услышан на соседних судах, но все побоялись вооружённых матросов. Кондратьева вытащили на катер. Офицеров высадили на пристань и поставили спиною к морю. Им предложили проститься, и они молча пожали друг другу руки. Раздался залп. Кандыба и Кондратьев упали. Остались стоять мичман Михайлов и лейтенант Тизенко. Истекающий кровью, он крикнул: «Что вы, негодяи, делаете?!». Матросы, как дикие звери, бросились на офицеров. Они расстреливали их в упор, кололи штыками, били прикладами. Лейтенант Тизенко долго не умирал и просил скорее добить его. Несколько матросов прикладами выбили ему зубы, сломали нос и исковеркали всё лицо. Вид убитых был ужасен: одежда изодрана в клочья, без сапог. На них было страшно смотреть. На «Петропавловске» слышали выстрелы, но вернувшийся конвой как ни в чём не бывало ответил, что офицеров сдали в распоряжение Центробалта. Вскоре обман вскрылся, но убийц не арестовали, не наказали, не осудили. На следующий день исковерканные тела перевезли на Ильинское кладбище. Это убийство глубоко возмутило весь Гельсингфорс. Проститься с погибшими пришло много совершенно посторонних флоту лиц. Их отпели в часовне на кладбище. Могилы были усыпаны цветами. Погибшие были совсем ещё молодыми людьми в возрасте от 21 до 27 лет. В политике они не принимали никакого участия. То были жертвы зверских инстинктов шайки преступников. Несмотря на все усилия офицеров, убийцы остались безнаказанными. Правительство Керенского считало убийства офицеров в порядке вещей. С цветами и поминальными свечами пришли мы на Ильинское кладбище. По две белые розы легли на каждый холмик. У каждого креста зажглась поминальная свеча. Слова были не нужны. Убийц не вспоминали. Они того не стоили, и только мне было непонятно, откуда столько животного садизма было у тех, кто сотворил такое. Как мог Мамонов (бывший сельский учитель) поднять руку на того, кто по годам годился ему в ученики, а гальванёр Климентьев и комендор Кокин бить лежащего лейтенанта Тизенко прикладами по голове. По роковому стечению обстоятельств он стал последней жертвой разнузданных «клёшников» в Гельсингфорсе, и его имя выгравировано последним на поминальной доске в Успенском соборе. Николай ТАРУНТАЕВ, г. Хельсинки |
|
|
|
 14.2.2010, 7:29 14.2.2010, 7:29
Сообщение
#53
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Неизвестная биография А. П. Ермолова
В фонде А. П. Ермолова в РГВИА хранится рукописная биография Алексея Петровича Ермолова, героя Отечественной войны 1812 г. и покорения Кавказа (Ф. 217. Оп. 1. Д. 15. Л. 1—12). В научном описании, составленном сотрудниками архива, отсутствует характеристика этого документа, не указано время его поступления в фонд; время написания биографии отнесено к последней четверти XIX в. и предположительно указан автор Н. Ф. Дубровин*. А. П. Ермолов. Литография П. Бореля. 1865 г. Имя военного историка, публикатора документов, российского академика Николая Федоровича Дубровина хорошо известно в литературе. Он оставил богатое научное наследие. Но среди публикаций Дубровина отсутствует биографический очерк, идентичный хранящемуся в фонде Ермолова**. Сопоставление статьи Дубровина «Алексей Петрович Ермолов при его назначении на Кавказ»* с хранящимся в архиве текстом дает возможность предполагать, что именно этот очерк использовал академик при написании своей работы. Архивная биография Ермолова написана (или переписана) хорошим писарским почерком, часть текста зачеркнута и другой рукой внесена редакторская правка. В статье Дубровина при повторении им текста, заимствованного из архивной биографии, зачеркивания, как правило, восстановлены. В очерке имеется упоминание о смерти Ермолова в 1861 г., а Дубровин отрывки из рукописи вставил в свою работу в 1869 г., эти даты и определяют время написания биографии как 60-е гг. XIX столетия. Рукопись анонима, хранящаяся в архиве, несомненно представляет научный интерес как одна из первых посмертных биографий Ермолова. Текст публикуется с сохранением всех особенностей языка документа. Зачеркивания воспроизводятся в угловых скобках. <Биография А. П. Ермолова> А. П. Ермолов был бесспорно выдающимся деятелем в царствование Императора Александра I и принадлежал к числу лиц, пользовавшихся наибольшею симпатиею современников. Эту симпатию <Алексей Петрович> он сохранил до своей кончины, и с именем Ермолова потомки связывают образ вполне русского человека, одареннаго блестящими способностями. Алексей Петрович родился в Москве 24 мая 1777 года. Отец его помещик Орловской губернии, <был председателем гражданской палаты, а затем> управлял канцеляриею генерал-прокурора графа Самойлова1. Мать А. П. Мария Денисовна Давыдова была родная тетка известнаго партизана-поэта Д. В. Давыдова2. Она была женщина очень умная, отличавшаяся остротою ума и резкостью выражений. По словам современника, <близко ее знавшаго> Марья Денисовна до глубокой старости была «бичем всех гордецов, взяточников, пролазов всякаго рода, занимавших почетныя места в провинциальной администрации»3. Оба ея сына с молоком матери всосали наклонность к остротам, и Алексей Петрович был в этом отношении почти безпощаден4. Как большая часть дворян того времени он получил первое образование от двороваго человека по имени Алексея. Водя по букварю резною указкою, Алексей учил грамоте своего тезку не подозревая, конечно, что в будущем ученик его будет проконсулом Кавказа, как называл Ермолова в своих письмах Великий Князь Константин Павлович. Для продолжения воспитания, молодой Ермолов был отдан сначала в семейство своего родственника орловского наместника Щербинина, а потом <в дом Левина и затем> отправлен в Москву в университетский благородный пенсион5. Древняя русская столица, по выражению Алексея Петровича, была через-чур гостеприимна. Длинным обедам не было конца и они бывали так часто, что многие не знали <домашних хлопот об этом, не знали> других обедов кроме званых. На таких пирах Москва <критиковала многия распоряжения, бранила прежде всего Петербург, но смотрела на него с завистью и> соблюдала <на обедах> чинопочитание бoлее чем «в австрийских войсках». Шампанское подавалось гостям только до известнаго чина: в одном доме угощали им только превосходительных, в другом, где хозяин был побогаче, этой чести удостаивались чины высокоблагородные и ассесоры. Младшие не обижались таким предпочтением и скромно ожидали повышения в чине, дававший им право на бокал шампанскаго6. «Москва не годится в главнокомандующие, — говаривал Ермолов: она перепутает всякое приказание»7, но Москва была всегда русским городом в самом обширном значении этого слова. Молодое поколение получало хотя и необширное научное образование, но воспитывалось так, что охотно несло свою жизнь и знания на пользу родины. Отечественная война показала что в состоянии была сделать и что сделала Москва для России в трудную годину испытания. Под впечатлением жизни и обстановки складываются наши привычки, вырабатывается характер и неудивительно, что Ермолов вынес из Москвы неподкупную любовь к родине и уважение к <старшим и> заслугам. Гостеприимная Москва сделала его радушным хозяином, приучила его к острому слову и при случае к едкой насмешке. С этими качествами Алексей Петрович явился в Петербург в чине сержанта Преображенскаго полка. Ограниченныя средства не дозволяли ему оставаться в гвардии, офицеры которой вели роскошную жизнь, держали собственный экипаж и огромное число прислуги в передней8. Пятнадцатилетний юноша стал искать себе иной род службы и первая служебная деятельность Ермолова связана с тем полком, слава котораго гремела в последствии на Кавказе в течение полувека. 1-го января 1791 г. Алексей Петрович был переведен капитаном в Нижегородский драгунский полк, шефом котораго был граф Самойлов, а командиром родной племянник графа, двадцатилетний юноша Н. Н. Раевский, один из знаменитых деятелей 1812 года. Ермолов отправился в Молдавию, где стоял <тогда> полк, но оставался там очень недолго и был назначен адъютантом к графу Самойлову. Петербург снова принял с распростертыми объятиями молодаго и красиваго адъютанта. Одаренный от природы необыкновенною физическою силою, крепким здоровьем и замечательным ростом, Ермолов своею красивою наружностью обращал на себя всеобщее внимание. Его большая голова, с лежащими в безпорядке волосами, проницательные и быстрые глаза делали его похожим на льва. Взгляд его, в особенности во время гнева, был необыкновенно суров. Горцы впоследствие говорили о Ермолове, что горы дрожат от его гнева, а взор его разсекает как молния. Острый, находчивый Алексей Петрович был желанным гостем высшаго общества, но оно не удовлетворяло его, и жажда к занятиям не дозволяла ему предаваться исключительно праздной светской жизни и удовольствиям. Переименованный по личной просьбе в капитаны 2-го бомбардирскаго батальона, Ермолов был зачислен 9 октября 1793 г. в артиллерийский шляхетский корпус, где и принялся с полным жаром за изучение военных наук. Возстание в Польше в 1794 г. отозвало его от ученых занятий. За штурм Праги Алексей Петрович был награжден орденом Св. Георгия9 и в следующем году отправлен в Италию, где прикомандированный к главной квартире австрийскаго главнокомандующаго, был участником войны австрийцов с французами10. Едва только он вернулся в Россию, как в 1796 году принял участие в персидском походе графа Зубова11. Репутация замечательнаго по способностям и отличнаго боеваго офицера, сулила Ермолову блестящую будущность, но обстоятельства временно сложились несколько иначе. По донесению Смоленскаго губернатора, брат Ермолова по матери Каховский был взят, а вместе с ним был взят и Алексей Петрович, посажен в Петропавловскую крепость, а затем отправлен в Кострому. Там он нашел другаго изгнаника, М. И. Платова, впоследствии графа и знаменитаго атамана войска Донскаго. Одинаковость участи сблизила их и они до смерти остались друзьями, не смотря на разность характеров. В Костроме Ермолов и Платов оставались три года и были освобождены со вступлением на престол Императора Александра I12. Приехав в Петербург, Алексей Петрович более двух месяцев ежедневно являлся в военной коллегии, «наскучив, как он выражался, всему миру секретарей и писцов»13. Наконец в июне 1801 г. Ермолов был принят <тем же чином> на службу в 8-й артиллерийский полк и получил роту, расположенную в Вильно. Он деятельно занялся службою и в приезд Императора через Вильну обратил на себя особенное внимание <и получил благодарность> «за скорую стрельбу и проворство движений». Наступившия затем безпрестанныя войны выдвинули вперед Ермолова и с лихвою вознаградили потерянное. Принимая участие во всех кампаниях, Алексей Петрович быстро шел вперед и скоро стал лично известен Императору. Самою блистательною деятельностью его, эпохою популярности и известности, был, конечно, 1812 г. В <самый> короткий промежуток времени он достиг до звания начальника дивизии, был начальником штаба армии, потом начальником всей артиллерии и наконец командиром гвардейскаго корпуса. <В Отечественную войну характер, способности и сила воли Ермолова развернулись во всем величии>. Пройдя школу под руководством Суворова и Кутузова, имея отличное военное образование, здравый ум, увлекательный дар слова и рыцарскую храбрость14, Алексей Петрович завладевал всеми и внушал к себе неограниченное доверие. <«Напрасно француз порет горячку, говорили солдаты, Ермолов за себя постоит».> Часто те, которым приписана была слава успехов, действовали по совету Ермолова. При отступлении от Пирны к Кульму князь Шаховской посылал своих адъютантов за приказаниями к принцу Евгению, который отправлял их к Остерману, а последний к Ермолову: «почему для сокращения времени, говорит Шаховской, я стал прямо посылать их к нему и ни разу в том не раскаялся». Сравнительно редко упоминаемый в реляциях Ермолов скоро стал любимцем войск и кумиром для молодых офицеров <и рыцарем без страха для народа>. Кутузов отдавал ему в этом должную справедливость, любил его и посылал часто туда, где горячее. Однажды, окруженный своим штабом, Кутузов смотрел с высоты на отступление французов. Глядя на Ермолова, который, по выражению современника, как гнев небесный мчался за неприятелем, фельдмаршал не без удовольствия указал на него окружающим. — Этому орлу я еще полета не даю, проговорил старик. Подвиги Алексея Петровича стали достоянием устных разсказов и молва сделала <для него гораздо более, чем бы официальныя реляции и похвала главнокомандующего. Редко упоминаемый в донесениях Ермолов являлся как бы преследуемый несправедливостью и вместе с тем> его представителем славы русскаго народа. <Когда многие обратились к отцу Ермолова выслать портрет сына, то старик удивился этому. «Подвигов героя вашего, писал он одному из желавших иметь портрет, не видал я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, которыя наполнены генералами Винцингероде, Тетенбарном, Бенкендорфом и проч., не надеюсь что бы много было охотников разбирать оные портреты»>15. А. П. Ермолов. Литография Н. Морена. 1827 г. Если с одной стороны Ермолов был популярен в армии и имел поклонников, то с другой высшее командование недолюбливало его за язык, неудержимый до колкости16. Сам Алексей Петрович сознавал свой недостаток. Главнокомандующий17, говорит он, <часто> терпеливо выслушивал мое возражение, но я заметил, что он часто удивлялся, как я, дожив до лет моих, не перестал быть Кандитом18. <Он высказывал малое сочувствие к партии, во главе которой стояли Барклай, Витгенштейн и многие другие.> Характеризуя в начале войны штаб Барклая, Ермолов говорил: «здесь все немцы, один русский, да и тот Безродный»19. Однажды, во время Отечественной войны, Ермолову, как начальнику штаба, пришлось сформировать легкий отряд. Он назначил генерала Шевича начальником отряда, в состав котораго вошли казаки, бывшие под начальством генерала Краснова. Шевич оказался моложе Краснова20, и атаман Платов, вступаясь за своего подчиненнаго, просил Ермолова разъяснить ему: давно ли старшаго отдают под команду младшаго и притом в чужия войска? Как чужия? спрашивал Ермолов. Разве вы казаки считаете себя только союзниками русскаго царя, а не его подданными? Казаки обиделись, и правитель дел атамана предлагал21 возражать Ермолову. «Оставь его в покое, отвечал Платов, ты его не знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведет наших казаков в сокрушение»22. Торжественная аудиенция Российского посла А. П. Ермолова у персидского шаха Фет-Али в 1817 г. Правда, что казакам тягаться с Ермоловым было не под силу. Будучи тверд в своем слове и неизменен в решении, он всегда доводил начатое им дело до конца. Император Александр, сроднившийся с своею победною армиею, знал Ермолова со всеми его достоинствами и недостатками. Оценив вполне высокие его качества, Император избрал его главнокомандующим на Кавказ и послал в Персию. Назначение это вполне удовлетворяло самолюбию Ермолова. «Достиг я моей цели, пишет он в одном из своих писем, и мог ли я предвидеть, что таково будет по службе моей назначение?» И действительно на 39-м году, в лучшую пору жизни, он был призван к самостоятельной деятельности и мог развернуть свои силы и способности23. Значительныя территориальныя приобретения, сделанныя Россиею по Гюлистанскому трактату 12 октября 1813 г., требовали энергичной деятельности по устройству вновь присоединеннаго края и сохранения дружественных отношений с Персиею, принужденною силою обстоятельств уступить России часть своих владений. Подписывая трактат, шах не терял еще надежды, что при предстоявшем разграничении Император Александр, по своему великодушию согласится возвратить Персии часть потеряннаго. Государь предоставил решение этого вопроса Ермолову, но предупреждал, что поступки и поведение его должны клониться к тому только, чтобы укрепить дружбу между двумя державами и ни в каком случае не нарушить ея. Зная заносчивость персиян и характер Ермолова, Император советовал ему строго следовать персидскому этикету. «В азиатском церемониале, писал Государь, заключается много таких вещей, которыя по своей необыкновенности часто кажутся для европейцев неприличными; в таковых случаях будте вообще сговорчивы, ибо не трудно различить то, что относится просто к обычаям, от таких вещей, кои можно почесть за унижение». Ермолов не вполне последовал воле Императора, хотя и остался победителем персидских претензий и требований. Первый вопрос, который встретил Ермолова по прибытии в Тавриз, был вопрос о красных чулках, без которых <до сих пор> не обходилась ни одна аудиенция у наследника персидскаго престола. По обычаю, в комнату наследника нельзя было войти в сапогах, но необходимо было снимать их и надевать красные чулки. Этикету этому следовали беспрекословно все послы европейских держав, но Ермолов не соглашался надевать чулки. Ему заметили что еще недавно посланный Наполеоном генерал Гардан25 исполнил это требование. «После красного колпака вольности26, отвечал Ермолов, ему не трудно было надевать и красные чулки». Видя несговорчивость русского посла и в то же время не желая нарушать установившагося придворнаго этикета, Аббас-Мирза27 решился принять посла не у себя в комнате, а перед домом на каменном помосте внутренняго двора. Посольству28 пришлось пройти несколько узких и темных корридоров и грязных дворов, прежде чем явиться перед наследником. При приближении к месту аудиенции, шедшие впереди церемониймейстеры и адъютанты принца, начали постепенно снимать свои туфли и кланяться почти до земли. «Не останавливаясь, говорит Ермолов, продолжили мы идти далее, на средине двора они догнали нас и опять начали поклоны, но уже не столь продолжительные, ибо сняв туфли, нет уже обыкновения снимать что-либо более <знатнейшия туфли могут, однако же, доходить до средины двора, но ни одна предела сего не переступает>». Аудиенция заключалась в простой передаче грамоты, в которой Император Александр выражал желание сохранить дружбу с Персиею. Из Тавриза Ермолов думал ехать как можно скорее в Тегеран для представления шаху, но его задерживали на каждом шагу. Нежелание русскаго посла подчиняться этикету и незнание данных ему полномочий, ставило персидское правительство в затруднительное положение. Все еще надеясь выговорить уступку хотя части потерянных владений, тегеранский двор подсылал к Ермолову разных лиц, чтобы выведать мысли посла и полномочия, ему данныя. Из всех переговоров персияне должны были заключить, что Россия не согласится ни на какия уступки, и тогда они решили не задерживать посла и предложили ему прибыть в Султанию29, куда с наступлением жаров шах обыкновенно приезжал и проводил лето. <«По изъявлении вам множества приветствий, писал визирь садри-Азам30 Ермолову, и по отправлении о вашем благополучии тысячи молитв, я рукою искренности снимаю фату с ланиты красавицы цели. После долгаго приковывания ока надежды к дороге ожидания, я денно и нощно не переставал мечтать о радостном с вами свидании, как вдруг пришла благая весть о приближающемся блаженстве вашего присутствия».> Прибыв в Султанию в начале июля, Алексей Петрович до 20 числа ожидал там шаха, потом в течение целой недели переговаривался о церемониале, и наконец только 31 июля состоялась аудиенция. Через несколько дней, и именно 3-го августа, были поднесены шаху подарки31, причем «убежище мира и средоточение вселенной» был особенно поражен хрустальными вещами и огромных размеров зеркалами. Долго и неподвижно всматривался шах в себя и в обливавшие его алмазы и бриллианты в безчисленных сияниях отражавшиеся в глубине волшебнаго трюмо. Но вот как-бы очнувшись, он думал было обратиться к другим вещам, но какая-то неведомая сила снова приковала его к месту. Прошло несколько минут, наконец, превозмогая себя, шах сделал легкое движение в сторону ... и очарование самим собою исчезло. «Мне было несравненно легче, произнес он, приобрести миллионы, чем этот подарок русского венценосца, который не променяю ни на какие сокровища в мире»32. А. П. Ермолов. Литография Л. Питча по оригиналу Э. Мамонова. Середина XIX в. Подметив слабую сторону, Ермолов, при помощи лести, нашел теплый уголок в сердце средоточия мира. «Не раз случалось, писал он Закревскому, что я выхваляя редкия и высокия качества шаха и уверяя сколько я <ему предан и> тронут его совершенствами, призывал слезу на мои глаза и так и таял от умиления. На другой день только и говорено было обо мне, что не было такого человека под солнцем. После чего не смел никто говорить против меня, и я с министрами поступал самовластным образом». Шах помирился с мыслью о невозможности возвратить и пяди уступленной по трактату земли и обещал назначить коммисию для разграничения. Алексей Петрович покинул Персию и 10-го октября возвратился в Тифлис33. Познакомившись с краем, он прежде всего обратил внимание на защиту жителей Кавказской линии. Признавая, что существовавшие крепости и посты не удовлетворяют своему назначению, главнокомандующий стал теснить горцев в глубину гор и с этою целью перенес часть линии с Терека на Сунжу, построил несколько новых укреплений и довел их до р. Сулака. Горцы хотя и уступили место, но пользуясь густо и трудно проходимыми лесами, упорно сопротивлялись. Тогда Ермолов решил приступить к рубке лесов и к проложению просек. Смотря на уничтожение вековых деревьев и их естественной защиты, горцы сознали, что не ружье и пушка, а русский топор покорит их34. Так оно было в действительности. Употребленный Ермоловым способ действий привел к тому, что он имел возможность с весьма незначительными силами держать в страхе всю Чечню и Дагестан. С другой стороны, господство наше в Закавказье возрастало по мере уничтожения ханской власти и введения русскаго управления. Для этой цели главнокомандующий пользовался каждым предлогом. Так, когда 24-го июля 1819 г. скончался Измаил хан Шекинский, то Алексей Петрович, не обращая внимания на наследников35, объявил, что ханство уничтожается и оное называется Шекинскою областью. «Я займусь, писал он, исправлением погрешностей прежняго злодейскаго управления, а народ, отдохнув от неистовств онаго, будет благословлять благотворительнейшаго из монархов». Уничтожение ханства Шекинскаго было громовым ударом для всех остальных ханов. «Я давно знал, что так будет, говорил Мустафа хан Ширванский». Человек умный и наблюдательный Мустафа скоро оценил цель действий Ермолова и 19 августа 1820 г. добровольно ушел в Персию, отправив туда заранее все свое имущество и часть гарема36. Жителям объявлено, что Мустафа лишен навсегда ханскаго достоинства и ханство принимается в российское управление. Примеру хана Ширванскаго последовал и хан Карабагский37, который 21 ноября 1822 г. также бежал в Персию. Власть хана в Карабаге объявлена уничтоженною и жители приняли это известие с большою радостью. «Обозрев прелестныя наши мусульманския области, писал Ермолов, сказать откровенно могу, что восхищался мыслию, сколько введение в них управления российскаго послужит в короткое время к их улучшению. Введение нашего управления есть дело, мне нераздельно принадлежащее и меня утешает польза, правительству принесенная». В этом отношении заслуга Ермолова действительно велика: удалив ханов, он ввел единство в управление и дал возможность сплотить ханства в одно целое, нераздельно связанное с составом Империи. Тегеранский двор неприязненно смотрел на деятельность Ермолова и подстрекаемый бежавшими ханами становился к нам в более и более неприязненныя отношения. В течение десяти лет вопрос о разграничении не двигался далее дипломатической переписки и граница между государствами не проводилась. По мере усиления неприязни, персияне становились более требовательными и наконец в 1826 г. вторглись в наши пределы. С началом персидской войны Ермолов был отозван с Кавказа38, и служебная деятельность его прекратилась навсегда39. <Сначала> он поселился в Орле, потом переехал в Москву где и жил до своей кончины, последовавшей 12 апреля 1861 года40. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Самойлов Александр Николаевич (1744—1814), граф, генерал-поручик, камергер, генерал-прокурор Правительствующего Сената. Племянник генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина. Отошел от дел в правление Императора Павла I. Ермолову Самойлов также приходился дальним родственником. 2 Род Ермоловых имел родственные связи с Давыдовыми, Раевскими, Самойловыми, Потемкиными, Щербиниными. 3 Эта фраза почти полностью заимствована из работы В. Ф. Ратча (Сведения об Алексее Петровиче Ермолове // Артиллерийский журнал. 1861. № 11. С. 636). Причем у Н. Ф. Дубровина она приводится более точно и с соответствующей отсылкой на автора (см.: Военный сборник. 1869. № 11. С. 21). 4 Даже Денис Давыдов, прочитав письмо А. П. Ермолова, наполненное язвительными колкостями и резкими выражениями о разных лицах, в ответе не удержался написать: «... во что обмакиваете вы перо ваше, потому что с него стекают не чернила, а желчь» (Погодин М. Алексей Петрович Ермолов // Русский Вестник. 1863. Т. 46. № 8. С. 671). 5 Автор ошибочно называет университетский пансион пенсионом. Эта неточность вкралась из-за некритического прочтения сноски В. Ф. Ратча. Вспоминая о рассказах Ермолова о своем любимом учителе профессоре Иване Андреевиче Гейме, Ратч привел следующую фразу: «Кажется, А. П. говорил, что он содержал пенсион, который назывался университетским, но за достоверность не ручаюсь» (Артиллерийский журнал. 1861. № 11. С. 643). Примечательно, что Н. Ф. Дубровин не сделал подобной ошибки и написал, что «неопределенность положения Ермолова среди родственников заставила отца его отправить сына в Москву, в университетский благородный пансион...» (Военный сборник. 1869. № 11. С. 22). 6 У В. Ф. Ратча мы находим следующее описание: «Москва была не только гостеприимна, но и обжорлива. Бесконечных обедов, из припасов, навозимых из подмосковных, было столько, что многие не знали других обедов, кроме званых. На этих пирах было чинопочитание даже более, чем в австрийских войсках. На торжественных обедах подавалось шампанское гостям до известнаго ранга, по средствам хозяина; в иных домах им угощали только превосходительных, в других до чинов ассесорских. Военные штаб офицеры, хотя бы и секунд-майоры, пользовались все правами коллежских советников. Другие не обижались ничуть этим предпочтением и в ожидании производства в чины, дававшие права на шампанское, пили шампанское в 30 копеек за бутылку» (Артиллерийский журнал. 1861. № 11. С. 641). Дубровин, описывая эти сюжеты, приводит почти дословно текст публикуемой нами биографии Ермолова (см.: Военный сборник. 1869. № 11. С. 22—23). 7 Источником этой фразы являются сообщенные В. Ф. Ратчем слова Ермолова: «Москва не годится в главнокомандующие: она перепутает всякое приказание; я никогда не спрашиваю, что говорят в городе, а что врут в городе. Зато московские басни правдивее петербургской правды, как из Вальтер-Скоттовскаго романа мы лучше узнаем средние века, чем из многих историй» (Артиллерийский журнал. 1861. № 11. С. 638). Дубровин цитирует, правда с искажениями, эту фразу с соответствующей отсылкой (Военный сборник. 1869. № 11. С. 23). 8 За отцом Ермолова числилось 100 душ крепостных крестьян. 9 Ермолов был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. При штурме Праги он командовал шестью орудиями. 10 В 1795 г. Ермолов находился в Северной Италии при командующем австрийскими войсками Девисе и был причислен к кроатским (хорватским) частям. 11 За боевые действия в 1796 г. Ермолов был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 12 М. И. Платова вернули из ссылки еще при жизни Павла I. Он был назначен командовать казачьими полками, участвовавшими в походе из Оренбурга в Среднюю Азию для поиска пути в Индию. 13 Задержка с принятием на службу объяснялась тем, что в военном ведомстве долго не могли найти формулярный список Ермолова. 14 Дубровин заимствовал эту фразу и поместил в своей статье, но перечислив фамилии Суворова и Кутузова, он добавил к этому ряду Барклая де Толли (Военный сборник. 1869. № 11. С. 34). 15 Неточная цитата из письма отца Ермолова к А. В. Казадоеву. Дубровин более точно приводит текст письма, в частности, при перечислении после Тетенборна, он упоминает фамилию Чернышева (Военный сборник. 1869. № 11. С. 37). 16 В 1815 г. А. А. Аракчеев говорил Императору Александру Г. «Армия наша... нуждается в хорошем военном министре: я могу указать Вашему Величеству на двух генералов, кои могли бы в особенности занять это место с большою пользою: графа Воронцова и Ермолова. Назначению перваго, имеющаго большия связи и богатства, всегда любезнаго и приятнаго в обществе и не лишеннаго деятельности и тонкаго ума, возрадовались бы все: но Ваше Величество вскоре усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какия нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость его бы вполне впоследствии оправдали» (Глиноецкий Н. Краткая биография генерала от артиллерии Ермолова // Военный сборник. 1861. № 5. С. 252). 17 Барклай де Толли. 18 Кандит, герой философского романа Вольтера «Кандид, или оптимизм» (1758). Кандид — то есть простодушный, искренний, наивный человек. 19 Имелся в виду генерал-майор Василий Кириллович Безродный. 20 То есть позднее был произведен в генерал-майоры и в генеральских списках по старшинству стоял ниже. 21 По смыслу в тексте надо читать — «продолжал». 22 Здесь приведен эпизод, рассказанный Д. В. Давыдовым. (см.: Давыдов Д. Военные записки. М. 1940. С. 204). 23 Ермолов сам добивался назначения на Кавказ и просил в 1816 г. А. А. Закревского через П. М. Волконского помочь получить это место (см.: Сб. РИО. Т. 73. СПб. 1890. С. 193; Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества: Дворянство и реформы в начале XIX века. М. 1994. С. 53—54). 24 О пребывании Ермолова в Персии см.: Ермолов А. А. П. Ермолов в Персии // Русская Старина. 1909. № 5—6. 25 Гардан Клод Матье (1766—1818), французский генерал и дипломат. С декабря 1807 по февраль 1809 г. был послом Франции в Персии. 26 Красный колпак, традиционый головной убор санкюлотов (радикальное крыло революционеров во Франции в конце XVIII века). 27 Аббас-Мирза (1782—1833), третий сын персидского шаха (Фатх Али-шаха), с 1816 г. — наиб-султан (наследник престола). 28 Штат посольства состоял более чем из 200 человек. 29 Султания, древняя столица Персии. 30 Садри-Азам, название должности первого визиря персидского шаха. 31 Подарки были преподнесены шаху, его супруге, сыновьям и высшим сановникам. Подарки шаху состояли: «Перо бриллиантовое с сапфирами, кинжал в золотой оправе, осыпанный бриллиантами и сапфирами с двумя жемчужными кистями на золотых шнурах; кальян хрустальный, оправленный богато золотом; часы бронзовые, изображающие слона, осыпанные каменьями и жемчугом; парча; бархат; меха собольи и горностаевые; фарфоровый десертный и столовый сервиз; чайный сервиз; стеклянный сервиз столовый и десертный; два больших зеркала; ящик, в котором находились сабля, ружье и пара пистолетов» (Ермолов А. А. П. Ермолов в Персии // Русская Старина. 1909. № 6. С. 479). 32 В октябре 1817 г. Ермолов в письме к К. В. Нессельроде сообщил о просьбе шаха подарить ему зеркала, фарфоровые и хрустальные изделия из России (см.: Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. VI. Ч. II. Тифлис. 1875. С. 182). Просьба шаха была удовлетворена, и в октябре 1820 г. новые подарки были вручены (см.: Внешняя политика России XIX и начала XX века. Серия II. Т. III. М. 1979. С. 603—607). 33 Повествование о пребывании Ермолова в Персии написано автором на основе «Журнала посольства в Персию генерала А. П. Ермолова в 1817 т.» (РГВИА. Ф. 217. Оп. 1. Д. 13). 34 Мысль прорубить леса принадлежала генерал-майору А. А. Вельяминову. Для этой работы употребляли местных жителей, которые под надзором русских войск прорубали просеки собственными топорами (см.: Карцев П. П. К истории покорения Кавказа // Русская Старина. 1884. Т. 43. № 7. С. 213). 35 После смерти Измаил-шаха члены его семьи были отправлены в г. Елисаветполь. 36 Мустафа-хан Ширванский бежал за границу внезапно, после того как русские власти раскрыли его связи с Персией и ханами, поднявшими оружие против русских войск. Его уход был поспешным, это доказывает то, что он не успел взять с собой двух дочерей. 37 Мехти-Кули-хан (умер в 1845 г.). Его сестра была замужем за персидским шахом, а брат Абуль-Фетх занимал высокие посты в шахской администрации. В 1827 г. Мехти-Кули-хан вернулся в Россию. 38 Приказ об увольнении был вручен Ермолову 24 марта 1827 г. (см.: Военный сборник. 1868. № 11. Отд. III. С. 6—7). 39 Не совсем верно. С 1831 по 1839 г. Ермолов состоял на службе, являясь членом Государственного Совета, в 1855 г. согласился возглавить Московское ополчение. 40 Большинство биографов указывают дату смерти Ермолова — 11 апреля 1861 г. Эта дата была выбита и на могильной плите в г. Орле (см.: Русская Старина. 1872. Т. 6. С. 492). Публикация В. М. БЕЗОТОСНОГО |
|
|
|
 17.2.2010, 4:43 17.2.2010, 4:43
Сообщение
#54
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Протоиерей Максим Хижий
История одного расстриги: иеромонах Илиодор (Труфанов) ..."Духовные" шествия илиодоровцев в чем-то похожи на будущие карнавалы "Союза безбожников". 15 августа 1911 г. под его руководством жгли "гидру революции", сплетенную из соломы, длиной в 3 сажени с огненными крыльями, зубами и жалом. В овраге у монастыря ей зачитались ее вины из 7 смертных грехов. После состоялось угощение из колбасы, кваса, конфет и винограда - столы накрывали на 900 человек. При этом и сам организатор квази-церковных процессий скорее относился к типу религиозных нигилистов. В одном из своих писем в Синод Илиодор напишет: "К созерцательной иноческой жизни я не способен, не искал ее, когда шел в монахи. Я искал боевой монашеской жизни и деятельности. Это мое призвание, это моя истинная жизнь"... Праворадикальное движение в России организационно оформилось во время революционных событий 1905 года. Определенную роль в формировании крайне правого политического крыла сыграли массовые беспорядки и погромы, прокатившиеся по стране после провозглашения Манифеста 17 октября, даровавшего гражданские свободы населению. Наиболее влиятельной, мощной силой правых был образованный в Санкт-Петербурге в октябре 1905 Союз русского народа. Невозможно понять характер черносотенного движения, оценивая его исключительно через призму политических программ. Огромное значение в праворадикальном крыле играли духовные вожди. Политические руководители черной сотни стремились не только к соблюдению формальной религиозной обрядности - освящению стягов СРН, штаб-квартир и т. д., но и старались обеспечить духовную опеку правых организаций со стороны харизматических личностей. Как правило, это были представители священства или монашества. Они были эталоном поведения, веры, им подражали. Духовные заблуждения черносотенных пастырей становились "болезнью" всей паствы. Исследование модели поведения, религиозных взглядов вождей позволяет увидеть "культуру безмолвствующего большинства" - рядовых союзников. Одним из наиболее значительных лидеров правых радикалов был иеромонах Илиодор (Труфанов). Воспитанник Санкт-Петербургской Духовной академии получил хорошее образование. Монашеский постриг над ним совершил ректор, архиепископ Сергий (Страгородский). Вряд ли стоит считать Илиодора "невежественным иеромонахом" [1]. По меркам той эпохи он получил превосходное образование. Свое священническое служение начал в Ярославской епархии преподавателем семинарии. В эти годы у него сложились хорошие отношения с губернатором А.П. Роговичем, известным своими правыми убеждениями. Увлечение Илиодора черносотенными идеями привело к конфликту с учащимися и закончилось шумным изгнанием с преподавательской должности. Первоначально иеромонаха приютил у себя на Волыни архиепископ Антоний (Храповицкий). Редакторская деятельность Илиодора в "Почаевских листках" привела его к конфликту с синодальными властями. Так, самый крупный Почаевский отдел СРН опирался на поддержку церковного издательства, принадлежавшего Успенской Лавре. У "Почаевских известий", формально принадлежавших СРН, "Почаевского листка" и "Почаевских епархиальных ведомостей" был один редактор, архимандрит Виталий (Максименко) [2]. Радикализм "Почаевских известий" достигал пика, когда редакторские функции исполнял иеромонах Илиодор. Один из номеров газеты вызвал серьезные нарекания со стороны обер-прокурора Синода. П.П. Извольский переслал №17 "Почаевских известий" за 1907 год архиепископу Антонию (Храповицкому) со словами: "Верю, что осудите слова и выражения, каким не место в этом издании" [3]. Данный номер вышел под общим заголовком "Люди, освобождайтесь от жидов". Общее содержание газеты было посвящено идее изгнания еврейского населения с волынской земли. Тема демонизации евреев хорошо отражена в заголовках номера: "жиды работают во всю, а крестьяне только затылки почесывают", "оборотная сторона жидовской клеветы", "жид ехал за границу". Газета вещала: "Все гнусные пороки, которыми страдает русский человек, как то, пьянство, воровство и прочая безнравственность, все это плод жидовской деятельности. По природе своей - жид лентяй и враг телесных работ" [4]. Естественно, такая "проповедь" имела весьма печальные последствия, если находила последователей. В 1906 году жандармерия вынуждена была начать расследование по просьбе еврейского населения, напуганного тем, что священник с. Ляникова Ковенского уезда читает с церковного амвона илиодоровские газеты, "называя их царским манифестом". Настоятель прихода призывал крестьян не разрешать местным евреям строить дома на "крестьянских землях и удаляться от общения с ними" [5]. Расследование не усмотрело погромной агитации в деятельности священника, передав дело на суд волынского архиепископа. Владыке Антонию, учитывая резонанс издательской деятельности своих подопечных, пришлось оправдываться за своего клирика. "Я обещал Вам, - писал обер-прокурору епископ, - что "Почаевские известия" перестали дурить, но ошибся. Недолгое отсутствие о. Виталия из Лавры дало возможность о. Илиодору опять написать нелепости. Я объявил ему строгий выговор, обещал при новой бестактности устранить его от издания вовсе; все это прописал в резолюции, но конечно впечатления этим не сгладил" [6]. Судя по содержанию, редакторская правка о. Виталия мало отличалась от "творчества" Труфанова. Архимандрит был осторожнее, избегал публиковать в газете лозунги, однозначно толкуемые властью как призыв к погромам или депортации [7]. В 1907 году последовал перевод в Саратовскую епархию, где Илиодор получает маленький, ничтожный по значению приход. Менее чем за три года он превращает его в процветающую обитель. Думается, новый карьерный взлет иеромонаха был неслучаен, он совпадает по времени с назначением правящим архиереем Саратова епископа Гермогена (Долганева). Между архипастырем и иеромонахом, уроженцами Донской области возникают доверительные отношения, которым способствовали общие политические взгляды. "Вестник СРН" 1910 №8 публикует восторженную статью "Деятельность отца Илиодора в Царицыне". Автор описывает картину чудесного возрождения обители: "Когда о. Илиодор приехал в Царицын, центр революционно-атеистической пропаганды, на миссионерскую службу, подворье архиерейское здесь представляло крайне печальную картину" [8]. Пустырь, обнесенный плохим деревянным забором, посреди которого маленькая церковь на 50 человек, ветхая, два послушника - вот и все хозяйство миссионера. Сам иеромонах пять месяцев жил в сторожке, но не пал духом. Он развернул бурную деятельность в провинциальном купеческом городе. Уже через три месяца на пустыре появились келии Свято-Духова монастыря на 30 человек братии. Через год построили новый храм на семь тысяч молящихся, трехэтажные корпуса, крестовую церковь, покои епископа, трапезную на сто человек, сто келий для монахов, типографию, помещения для братств трезвости, кухню, склады, гостиницу на три тысячи богомольцев. По самым скромным подсчетам бюджет этого строительства составил баснословную по тем временам сумму - 3000000 рублей. Денежный поток не иссякает. Илиодор планировал выстроить в монастыре храм, превосходящий вместительностью московский собор Христа Спасителя (по новому проекту реконструкции он должен был вмещать еще на 1000 человек больше). Настоятель не скупился на оказание помощи нуждающимся и погорельцам. Откуда новоиспеченный настоятель взял такие колоссальные средства? По мнению газеты - это "добровольные жертвы, и не одного какого-то богача, а главным образом народной массы, на которую проникнутое горячей верой слово о. Илиодора имеет неотразимое влияние" [9]. Вокруг обители с завершением постройки сразу подорожала земля под частные дома с 50 до 3000 руб. У самого же монастыря земли и крупных капиталов не было. Община просила дать им обширную площадь, тянущуюся в сторону Волги, под сады, но городская дума решила отвести ее под торговые заведения. У стен монастыря многие квартиры снимали паломники, разумеется, приносившие немалые средства. Однако с большим сомнением можно отнести необычайные успехи Илиодора в созидании своего духовного центра к благотворительности простых прихожан. Иеромонах не любил просить денег у паствы, предполагая, что это не прибавит ему популярности. Поэтому, если и обращался за помощью, то просил жертвовать "натурой" - кирпичами или пиломатериалами. Как правило, результаты таких кампаний были незначительны [10]. Источники финансирования масштабных замыслов Илиодора, видимо, находились в столице. В одной из своих речей иеромонах так описывает отношения с "сильными мира сего": "Меня вызывали в Москву и Санкт-Петербург! Там я бывал у высоких особ, князей и графов, но не церемонился, когда садился за обед, а они не крестили лба, я их спрашивал: "не язычники ли они?" Великосветских графинь учил вставать перед священником, скидать перчатки и целовать руку" [11]. Можно с высокой степенью уверенности предположить, что с такими харизматическими способностями и связями ему не составляло труда потребовать все необходимое для собственной обители. Сам иеромонах был подчеркнуто аскетичен. Его келья состояла из трех небольших комнат с весьма скромной обстановкой: стол, два стула, лежанка, книги. Конечно, он никогда не называл имен своих благодетелей, предпочитая говорить о всенародной любви к его делу. Действительно, проповеди монаха постепенно привлекли толпы жителей. Используя бесплатный труд паломников, он выстроил неприступную крепость. Во дворе монастыря Илиодор велел вырыть катакомбы, чтобы укрыться под землей по примеру древних христиан. Ходы вели под храм и остальные корпуса. Одни усыпальницы были рассчитаны на 5000 человек (включая сюда в награду и самих пещерокопателей). Над заполненной нишей усыпальницы писали имя захороненного и вешали лампаду, поддерживая "неугасимый огонь". Подземелья обкладывались кирпичом, под потолком делались своды. Планы их держались в секрете. Скорее всего Илиодор созидал свой духовный центр, копируя отдельные детали жизни древних монастырей Афона, Киевских пещерных обителей и Святогорья. И все-таки в основе идейного замысла его зодчества - не монастырь, а крепость, способная выдержать осаду. Конечно, традиционно обители средневековья выполняли и функции защиты от внешних врагов, но царицынская фортеция с ее конспирацией была скорее символом борьбы с врагами внутренними. Досаждая властям своими бесконечными конфликтами с "миром", Илиодор неоднократно отсиживался за ее стенами от полиции. Однако мы полагаем, что замысел его обители, ее "духовного стиля" состоял в создании у паствы особого настроения, именуемого "осажденной крепостью", которая противостоит "погибающему миру". На службу этой идее в монастыре было поставлено все. На 1911 г. в братии числилось 3 иеромонаха, хор певчих из 10 послушников, 4-5 монахов. Илиодор ввел общее пение на службах, объяснял народу значение священнодействий. На богослужения, особенно праздничные, приходили до десятка тысяч православных. Литургия длилась до 4 часов (в два раза дольше обычного), но и после нее не уходили, слушали Илиодора и шли к выходу с пением тропарей. "Службы церковные им обставляются настолько торжественно - пишет "союзническая" газета, - что во время этих служб люди забывают, где они находятся, на небе или на земле [...] все это увлекает и поражает, все забываешь и как будто поднимаешься от земли. Богомольцы стоят в храме у о. Илиодора по 5-7 часов и не чувствуют усталости" [12]. Таким образом, настоятель противопоставлял "благочестие" своей обители обычным церковным приходам, достигая желаемого авторитета в глазах прихожан. Крестные ходы у Илиодора выходили за рамки обычной религиозной процессии. Здесь было все - и смесь театрального действа со средневековой мистерией, и политическая манифестация с устрашением потенциальных врагов, но лишь внешне это отдаленно напоминало богослужение. В этих процессиях принимало участие более тысячи человек. По воспоминаниям современников, шествия были лучше и многочисленнее столичных: "Становятся певчие в числе более 1000 человек. Из ворот монастыря выносят 11 исторических картин громадного размера: "Русь идет", "Николай II", "Государыня и наследники", "Смерть Сусанина", "Минин", портреты других императоров [...] Впечатление от патриотических торжеств не поддается никакому описанию" [13]. Илиодор говорил, что в некоторых процессиях принимало участие до 10 тыс. и более человек. Это превосходило по многолюдности даже печально знаменитый крестный ход 9 января 1905 года. "Духовные" шествия илиодоровцев в чем-то похожи на будущие карнавалы "Союза безбожников". 15 августа 1911 г. под его руководством жгли "гидру революции", сплетенную из соломы, длиной в 3 сажени с огненными крыльями, зубами и жалом. В овраге у монастыря ей зачитались ее вины из 7 смертных грехов. После состоялось угощение из колбасы, кваса, конфет и винограда - столы накрывали на 900 человек. При этом и сам организатор квази-церковных процессий скорее относился к типу религиозных нигилистов. В одном из своих писем в Синод Илиодор напишет: "К созерцательной иноческой жизни я не способен, не искал ее, когда шел в монахи. Я искал боевой монашеской жизни и деятельности. Это мое призвание, это моя истинная жизнь" [14]. Он просит первенствующего члена Синода митрополита Антония (Вадковского) оставить его "заведовать подворьем, боевым священным местом". Заявление иеромонаха противоречит тому, что было сказано в слове на его пострижение архиепископом Сергием (Страгородским): "Как и сам ты мне говорил, уже давно тебя влекла к себе духовная жизнь [...] окончательное решение быть монахом досталось тебе не без борьбы и искушений, и даже вот теперь, в последние часы ты был смущен до глубины души новым особенным испытанием" [15]. Странным образом "мирской" монах объясняет происхождение столь своеобразных взглядов на церковное служение. По его мнению, в Духовной академии учили так "пастырствовать, священствовать, пророчествовать". Конечно, практика Илиодора была его личным изобретением, но очевидно то, что духовные школы утратили связь с подлинной церковной жизнью, омертвели, стали рассадниками анархизма не только атеистического, но и, как выясняется, религиозного [16]. Политизация религиозной жизни в России в начале ХХ столетия становилась явлением обыденным. Трудно согласиться со словами Илиодора, что его учили "пророчествовать". Атмосфера духовных учебных заведений скорее "внеурочно" готовила будущих пастырей к политической деятельности. Молебнам, панихидам, отпеваниям, крестным ходам их участники придавали характер демонстраций. Так, владимирские семинаристы обратились с требованием к епископу Никону (Софийскому) отслужить панихиду по лейтенанту Шмидту. Учащиеся петербургских духовных школ приняли в 1905 году участие в отпевании религиозного философа и общественного деятеля С.Н. Трубецкого, которое переросло в политическую манифестацию с пением "Марсельезы". Ректор Санкт-Петербургской Духовной академии архиепископ Сергий (Страгородский) был решительным противником подобного рода мероприятий. В своем объяснении в прессе о причинах отказа служить панихиду по С.Н. Трубецкому он писал: "Был у меня и другой мотив, тоже совершенно не касающийся моих отношений к почившему. Мне казалось (я, конечно, могу и ошибаться), что, прося меня отслужить панихиду, думали не столько о молитве за упокой души почившего, сколько хотели этим способом засвидетельствовать свою солидарность с освободительным движением, хотели, таким образом, устроить некоторую демонстрацию. При всей своей кажущейся невинности и обычности, это все-таки было бы великое кощунство над молитвой и издевательством над душою почившего" [17]. Тем не менее без участия ректора панихида все-таки состоялась. Богослужение с хором семинаристов возглавил инспектор академии архимандрит Феофан (Быстров) [18]. Воспитанный в этой атмосфере, иеромонах Илиодор перенимает не только тактику крестных ходов - демонстраций, но и приспосабливает к политическим задачам свой "пророческий" талант: "Я могу выстроить грандиозный монастырь, но это будет в ущерб для более важного дела. В России Святой ведь обителей много, но некому в них кормить духовной пищею приходящий православный народ. Зачем же, зачем созидать мертвые камни, которые, быть может, через несколько десятков лет будут обращены в пепел китайскою конницею. И будут сокрушены именно потому, что одни духовные руководители православного русского народа не хотят, не могут, а другим не дают заботиться о воспитании, обделывании живых камней - народных бессмертных душ" [19]. Илиодор имел в Царицыне немалое влияние, участвуя во всех событиях провинциальной и даже столичной жизни. В 1911 г. по благословению епископа Гермогена он посещает Петербург для поисков украденной Казанской иконы Богородицы. Также он отправляет председателю Государственной Думы Акимову телеграмму, где клеймит Л.Н. Толстого как "великого духовного разбойника и богохульника" [20]. От имени совета Царицынского православного общества протестует против выражения соболезнования городской думой семье Толстого по случаю его смерти. Иеромонах пишет обличающий светских писателей труд "Победа истинно православных людей над дьяволом" [21], где ругает мусульман и лютеран, интеллигентов и купцов, журналистов и драматургов. Одной из типичных черт Илиодора, характеризующей его принадлежность к определенному религиозному типу, было употребление иеромонахом ненормативной лексики. Внутренние правила церковной жизни весьма строго относились к обычному "бытовому" сквернословию даже мирян, не говоря о священнослужителях. Царицынский пастырь не гнушается брани в общественном служении. Его ненормативный гнев изложен в телеграмме к московской городской думе по поводу ее решения о покупке дома Л. Н. Толстого для создания музея писателя. Телеграфист, отправлявший текст, просил заменить хотя бы одно слово. Неистовый монах был непреклонен: "Никаким другим словом заменять не желаю и не заменю, так как слово [...] неоднократно встречается в Священных книгах Православной Российской Церкви" [22]. Более того, в открытом письме к Комитету выставки имени Л.Н. Толстого он называет писателя "яснополянским бесом". Илиодоровское послание не решился опубликовать даже А.И. Дубровин в своем "Русском знамени" [23]. Церковные правила (канонический устав) не только осуждали сквернословие, но и категорически запрещали кого-либо называть "диаволом" [24]. Некоторые свои послания Илиодор заканчивал своеобразным извинением: "Простите, детки, если сказал правду резко. Уверен, что мягко правду вы не поймете. Остаюсь в ожидании вашего покаяния, исправления - ваш, по воле Божией, отец и наставник - грешный иеромонах Илиодор" [25]. Проповедь иеромонаха безусловно была не только определенным социальным посланием, но и стилизацией под определенный тип святости - юродство. Именно юродивым было позволено то, что не разрешалось обычным христианам, они находились за общепринятой границей поведения. Традиция не осуждает их за нарушение норм поведения, потому что таковое является, во-первых, внешним признаком юродства, "отречением от ума", во-вторых, может быть своеобразным обличением религиозно-нравственного несовершенства мира [26]. Несмотря на то, что Илиодор был внутренне далек от личного мистицизма и его отношение к религии было скорее утилитарным, тем не менее он начал созидать собственный культ для манипуляции массами прихожан: "Есть неоспоримые факты, что я, живя среди вас, совершал чудеса, исцелял больных, предсказывал события на многие года вперед" [27]. Ради этого он мог посетить заболевшего холерой прихожанина, демонстративно не боясь смертельно опасной болезни. Оппозиционная печать не скупилась на публикации примеров вызывающего поведения Илиодора. В июле он с толпой почитателей плывет в г. Саров на пароходе "Великая княжна Ксения". Это путешествие сопровождалось многими случаями хулиганства. Паломники, под личным предводительством иеромонаха Илиодора, сходили с корабля и шествовали по городу с пением духовных и светских песен. К ним присоединялись как местные члены разных союзов, так и "подонки местного городского населения" [28]. Во время шествия его участники (числом до 1500) наносили оскорбления прохожим, не желавшим приветствовать манифестантов. Сторонники иеромонаха разгуливали по Царицыну, водрузив на древко скрещенные копье и топор. Новоявленные "опричники" не щадили никого. В Вольске зверски избили мальчика-татарина, сам Илиодор бросался с палкой на жену местного градоначальника за то, что она не встала на балконе для приветствия демонстрации "паломников". Паломничество сопровождалось погромными эксцессами (не носившими антиеврейской направленности) по всей Волге. Причем полиция явно потворствовала бесчинствам, отказывая пострадавшим в возбуждении расследования. Потребовалось вмешательство депутатов Государственной Думы, положившее конец илиодоровскому разгулу [29]. Илиодор - мастер провокации. Иеромонах буквально начинил социальными страстями религиозные формы. Неслучайно типичными лозунгами его манифестаций были призывы "бить крамольников" и предупреждения о "народной мести" [30]. Удивительным является то, что по привычной терминологии правый радикал Илиодор, сторонник "охранительного" Православия, был скорее типичным левым реформатором христианства. Его усилиями оно превращалось в политическую религию, социальную веру, лишенную внутренне всякого метафизического начала. В этой стихии псевдосоциализма, его пафосе общественной борьбы, говоря словами Л. Карсавина, "все время находил себе выход религиозный экстаз, который не находил уже себе места в историческом христианстве последних веков" [31]. На фоне падения массового интереса к церковной вере деятельность Илиодора с многолюдностью, бурным строительством создавала до поры у властей иллюзию "духовного возрождения" народной веры, возвращения от революционных бунтов к исконным истокам. В этом контексте становится понятной связь, существовавшая между Илиодором и Распутиным. И хотя конфликт за влияние при дворе привел к разрыву и последующей вражде этих персонажей, оба они являются феноменом альтернативной религиозной культуры [32]. Илиодор проповедует неустанно на площадях, на базарах, на заводах, на бахчах, на пристанях, - везде, где его приглашают служить. До его приезда Царицын всецело был захвачен революционным течением. Один из поклонников монаха восторженно писал: "Полюбил его народ и отдался ему всей душой, полюбил его за строгую иноческую жизнь, за истовое и торжественное богослужение, и за чудные религиозно-патриотические и религиозно-нравственные проповеди. За проповедь его можно, без преувеличения, назвать современным Златоустом" [33]. Типичной проповедью иеромонаха Илиодора можно считать неоднократно изданную Почаевской Лаврой брошюру "Видение монаха". Сюжет этого сочинения является откровенным подражанием массовой религиозной литературе. Главный герой повествования, монах, "видит" в мире людей, разделенных на два лагеря - справа стоит черная сотня, слева - красная. Правые - это "все больше простой народ, крестьянский люд", но среди этого народа было и несколько "господ"; впереди стояло много бедно одетых священников, монахов с крестами, с Евангелиями и с иконами в дорогих убранствах; тут же виднелось несколько архиереев в полном святительском облачении с посохами в руках. Собрание правых украшено полотнищами с надписями "за веру, царя и отечество умрем! Русь идет!" [34]. Слева стояли "полугоспода", студенты, фабричные рабочие и "особенно выделялись жиды". Но главное было то, что "блестело вдали". Это стояли архиереи и их было много, но "их трудно было различить, из земли под ними выходил какой-то едкий дым и окутывал их". Среди левых находилось много священников, "щегольски одетых, с постриженными бородами и усами". Черная сотня стояла в белых одеждах, а над левыми в небе парил сам сатана [35]. В своем "видении" Илиодор обращается к известной Евангельской притче об "овцах и козлищах". "Агнцы", стоящие справа (спасенные праведники), удачно совпадают с политическим крылом - черносотенцами, левые - с грешниками, идущими в геенну. "Белые одежды" - символика святых, заимствованная из Апокалипсиса, они также удел правых. Изображение в числе грешников епископов на фресках Страшного суда не являлось чем-то новым. Но у Илиодора погибающих архиереев большинство! Не пошли вовремя за черной сотней спасать царя! Далее по сюжету их убивает молния, а оставшихся и покаявшихся прощает спасенный народом (ополчением, как у Кузьмы Минина) государь. Религиозный изначально сюжет переходит в политический, проповедь - в агитационный листок. "Видение" заканчивается тем, что монах, от лица которого шло повествование, умирает, погребаемый дикими зверями, оставляя послание - "Могилы моей не ищите!" [36]. Понятно, что визионер легко ассоциировался с самим автором. Фактически под сенью Лавры издавалась литература, откровенно направленная против высшей церковной иерархии. Совершенно очевидно, что епископат воспринимался правыми в лучшем случае как пассивная сила, способная лишь к конформизму. "Видение" Илиодора служит дополнительным свидетельством о причинах сдержанного отношения епископата к деятельности правых и о назревавших противоречиях. Участие отдельных священнослужителей в черносотенном движении раскалывало Церковь. Использование церковной проповеди для пропаганды политических, а не религиозных идей, - для Православия вещь далеко небезобидная. Европейская революция, как известно, начиналась с идей реформации, характерной чертой последней был значительный, а иногда и преобладающий интерес к социально-политической тематике в проповеди [37]. Газета "Земщина" поместила на своих страницах рассказ "Травля о. Илиодора" о типичном конфликте монаха с дамой из высшего общества. Ссора произошла на корабле во время паломничества иеромонаха со своими последователями в Саров. Причину конфликта следует искать в бестактном поведении пастыря, который, как уже говорили, имел пристрастие к ненормативной лексике. Пострадавшая сторона заявила о некоем личном письме архиепископа Антония (Храповицкого), где последний называет Илиодора "нахалом и безобразником". Газета переживает не только за монаха, опасаясь , что его "хотят погубить", но, таким образом, публично заявляет о расхождении во взглядах с самым популярным в правой среде иерархом [38]. Илиодор имел серьезных покровителей в столице. Если его вызывающее поведение в адрес депутатов, оставленное без последствий, не удивляет, то конфликт с саратовским губернатором графом С.С. Татищевым показал всю степень влияния иеромонаха при дворе. П.А. Столыпин в своем письме в апреле 1909 года товарищу министра внутренних дел С.Е. Крыжановскому о проступках Илиодора сообщает, что монах "в своих последних проповедях заявлял, что, несмотря на распоряжения Святейшего Синода, он останется в Царицыне, а губернатора с министрами надо выпороть на царской конюшне" [39]. Премьер-министр характеризует С.С. Татищева как лучшего губернатора и "верного слугу Государя", которого удалось удержать на своем месте под условием перевода Илиодора из Саратовской епархии. П.А. Столыпин считал, что царю "все это" не доложили и монарх оставил бунтаря на месте. Однако последующее разбирательство открывает новые обстоятельства дела. Николай II знал о "выходках иеромонаха", счел их "совершенно недопустимыми и не отвечающими священническому и иноческому сану", но позволил ему остаться в Царицыне "исключительно во внимание к усиленным просьбам о том его духовной паствы" [40]. Разумеется это была придворная паства, более влиятельная, чем губернатор, премьер-министр, Синод. Известно, что Илиодор был введен в свое время епископом Гермогеном (Долганевым) в салон графини Игнатьевой, но влияние лиц, бывавших там, было не столь велико; остается предположить, что такой паствой могли быть скорее всего лица, весьма близкие к императорскому дому. Уже в 1911 году, незадолго до удаления Илиодора по решению Синода во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, в письме Николаю II П.А. Столыпин обращает внимание императора на то, что считает "самое направление проповеди Илиодора последствием слабости Синода и Церкви и доказательством отсутствия церковной дисциплины" [41]. Премьер-министр убеждает царя не менять поспешно обер-прокурора в ближайшее время, чтобы иеромонах не приписал это событие личному влиянию. Противостояние Илиодора с епископатом и Синодом закончится для монаха поражением. По мнению исследователей его "жития", причиной "падения велия" был разразившийся конфликт с Григорием Распутиным. Сибирский "старец" поначалу оказывал протекцию Илиодору. С его подачи иеромонаха принимали в императорском дворце. Однако союз сменился конфронтацией, которая привела к опале не только Илиодора, но и епископа Гермогена. Сосланный во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, лишенный своего привычного окружения и деятельности, он перестанет посещать богослужения. Первоначально правая пресса будет публиковать рассказы о "келейной молитве" опального чернеца. В Синод же будут доставляться донесения об уклонении монаха от общей молитвы и подозрительном "затворе". Видимо иеромонах ожидал в "затворе" широкого общественного резонанса на его заключение в монастыре, но он просчитался. Дело епископа Гермогена, наоборот, стало предметом рассмотрения в Государственной Думе, вызвало сочувствие некоторых депутатов [42]. Оставшись без поддержки "власть предержащих", предчувствуя конец своей "духовной" карьеры, Илиодор упредит намерения Синода и сам объявит о снятии сана и вольется в ряды левого движения. Это вызовет шок в правой прессе, которая более месяца будет хранить молчание, будто не веря свершившемуся отступничеству одного из своих духовных вождей. Только "Церковные ведомости" кратко сообщат о решении Синода по делу расстриги. Илиодор превратится в Сергея Труфанова и проделает свой путь назад с сохранением мельчайших деталей своей прежней биографии. Во-первых, он попросит прощение у праха "великого русского писателя Льва Толстого" и его последователей. Во-вторых, опубликует украденные у Распутина письма императрицы, что послужит усилению соблазнов в общественном мнении об императорской чете и росту антимонархических настроений в России. В итоге создаст на Дону религиозную секту "Новая Галилея" из бывших и новых адептов. Однако предприятие не принесет ожидаемых "духовных" и материальных плодов. В первые годы революции Труфанов предложит свои "услуги" "вождю мирового пролетариата" для создания адекватной новому строю религии. Предложение расстриги останется без последствий. Позднее бывший царицынский настоятель всплывет в Америке, предусмотрительно покинув Советскую Россию, которой "отработанный материал" был не нужен. Он скончается в 1957 году в должности швейцара чикагской гостиницы, ставшей последним приютом некогда влиятельного человека в крайне правом "истинно-русском" движении. Как правило, бытует мнение о Илиодоре (Труфанове) как талантливом авантюристе и беспринципном человеке. Мы же полагаем, что в определенном отношении это была цельная натура, поставившая во главу своей деятельности политическую целесообразность и крайний конформизм. Так на Волыни он был антисемитом, в Царицыне - защитником угнетенных низов и социального дна. Он всегда прекрасно чувствовал и передавал господствующее в мире настроение. Его человеческой природе было свойственно плыть по течению, а не бороться с потоком, встать во главе беснующейся по любому поводу толпы, а не остановить безумие массы. Он был в полном смысле слова "народным" - "языческим" пастырем. История духовного падения Илиодора (Труфанова) является не только печальным примером судьбы "церковного политического деятеля", но и дает повод задуматься над последствиями для Церкви правой, выражаясь словами архиепископа Антония (Храповицкого), "гапониады". Список сокращений РГИА - Российский государственный исторический архив. ЦГИАУ - Центральный государственный исторический архив Украины. Примечания 1. Степанов С.А. Черная сотня в России. М., 1992. С.203. 2. С 1934 по 1960 епископ РПЦЗ на Восточно-Американской кафедре. 3. РГИА. Ф.1569. Оп.1. Д.34. Л.2. 4. Почаевские известия. 1907. 23 января. 5. ЦГИАУ. Ф.1335. Оп.1. Д.581. Л.7. Законом 1882 г. лицам иудейского вероисповедания запрещалось приобретать земельные участки в собственность вне черты оседлости. Но отчет Волынского губернатора за 1911 г. свидетельствует о том, что многие евреи всячески стремились обходными путями купить или арендовать землю. Это вызывало серьезные опасения землевладельцев, особенно крестьян, боявшихся перехода своих участков в руки еврейских торговцев. Подобные настроения на селе способствовали тому, что черносотенные партии, в первую очередь СРН, нашли самую широкую поддержку со стороны крестьян Юго-Западного края. 6. РГИА. Ф.1569. Оп.1. Д.34. Л.3 об. 7. ЦГИАУ. Ф.442. Оп.861. Д.302. Л.1-2. Волынское жандармское управление, как это явствует из докладов секретных осведомителей, не спускало глаз с деятельности почаевских миссионеров. За о. Виталием и Илиодором в 1907 году был установлен негласный надзор. Уездный исправник рапортом извещал свое начальство о том, что его подопечные при посредстве местных приходских священников создали во многих селах подотделы СРН, состоящие главным образом из крестьян, в том числе и из неблагонадежных. Фактически эти первичные организации существовали лишь на бумаге. Крестьяне более всего хотели бы получить землю, и жандарм опасался, что "если допустить, что политика СРН стала бы на аграрную почву, то [...] может когда-либо вновь вызвать такое движение, размеры которого [...] угадать трудно". - ЦГИАУ. Ф.1335. Оп.1. Д.1546. Л.32. Крестьяне вступали в СРН целыми селами, как, например, жители сел Тарнавы и Соборовки, но не для борьбы с "врагами Престола и Отечества" и противодействия "засилью инородцев", а для того, чтобы диктовать свои условия помещикам. В итоге в Юго-Западном крае СРН за счет крестьян значительно пополнил свои ряды, но результат оказался противоположным ожидаемому: вместо укрепления на селе "порядка и законности" участились крестьянские волнения и выступления. Со временем крестьяне поняли, что земли им не дадут, и стали покидать ряды СРН. См.: ЦГИАУ. Ф.1335. Оп.1. Д.1546. Л.32. 8. Вестник СРН. 1910. №8. С.4. 9. Там же. С.4. 10. Речь. 1909. 10 ноября. 11. Там же. 12. Вестник СРН. 1910. №8. С.3. 13. Там же. С.3. 14. РГИА. Ф.786. Оп.1. Д.314. Л.5. 15. Архиепископ Сергий (Страгородский). Речи и слова. СПб., 1905. С.129. 16. Интересный пример, подтверждающий нашу мысль, содержится в книге С.Л. Фирсова. Известному провокатору Азефу предложили план убийства царя с помощью православного священника. Автором его был некий эсер, убежденный террорист, закончивший полный курс Духовной семинарии. По мнению Фирсова, подобный пример "весьма характерен для того времени: ведь неназванный "убежденный террорист", желавший убить царя [...] все-таки завершил обучение в духовном учебном заведении, где ему внушались диаметрально противоположные эсэровским взгляды на жизнь, на мораль и на нравственность!". Речь идет об обучении в духовных заведениях заведомо неверующих людей. Это прекрасно понимали многие иерархи, и прежде всего, архиепископ Антоний (Храповицкий), открыто выступавший с идеей реформирования церковных учебных заведений по причине воспитания ими нигилистов. Но даже он поздно понял с кем, в лице Илиодора, имеет дело. См. Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996. С.72. 17. Церковный вестник. 1905. №41. С.1287. 18. Впоследствии - епископ Полтавский (1913-1919). Эмигрировал из Советской России с частями Белой армии. Последние годы жизни провел на Афоне. 19. РГИА. Ф.786. Оп.1. Д.314. (Письмо иеромонаха Илиодора митрополиту Антонию (Вадковскому). 1909 год, точная дата отсутствует). Л.5. 20. Фирсов С.Л. Указ. соч. С.72-73. 21. РГИА. Ф.786. Оп.1. Д.314. Л.6. 22. РГИА. Ф.786. Оп.1. Д.314. Л.6 об. 23. Там же. Л.6. Послание Илиодора с его комментариями отложилось в архиве редакции черносотенной газеты. 24. Булгаков С.В. Настольная книга священно-церковно-служителей. М., 1913. С.1099. 25. РГИА. Ф.786. Оп.1. Д.314. Л.10. 26. Священник Иоанн Ковалевский. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской Церкви. Исторический очерк и жития святых подвижников благочестия. М., 1902. С.62. 27. Историческое описание Свято-Духова (Илиодорова) монастыря. Царицын, 1909. 28. Речь. 1909. 17 ноября. 29. РГИА. Ф.1278. Оп.2. Д.2634. Л.2. 30. Там же. Л.7. 31. Карсавин Л.П. Малые сочинения. М., 1994. С.509. 32. Фриз Г. Церковь, религия и политическая культура на закате старой России // История СССР. 1991. №2. С.113. ("И если Церковь стала отходить от самодержавной политической культуры, сам император приближался к альтернативной религиозной культуре, отвергавшей "сухую формальность" официального Православия. Именно в связи с кризисом в отношениях между Православием и самодержавием следует изучать феномен Распутина. Несмотря на многочисленные попытки разобраться в "распутинщине", она еще мало изучена и, как правило, расценивается лишь как проявление "мистицизма" дворцовых кругов, без малейшей связи с общими культурно-религиозными вопросами того времени. Необходимо определить социально-культурную значимость "распутинщины", т.е. выявить те условия, в которых "старец" из Сибири становится символом народной набожности, противостоявшим официальной Церкви. Именно старчество сыграло в этом важнейшую роль. Показательно, что Распутин с самого начала претендовал на статус "старца", подобно Серафиму, и тем самым приобретал доверие светской верхушки (и презрение духовенства)". 33. Вестник СРН. 1910. №8. С.3. 34. Видение монаха. Почаев, 1907. С.4. 35. Там же. С.5. 36. Там же. С.6. 37. Хилл К. Английская Библия и революция. М., 1998. С.436. 38. Земщина. 1910. 10 сентября. 39. РГИА. Ф.1284. Оп.47. Д.64. Л.17. 40. Там же. Л.20. 41. Из переписки П.А. Столыпина с Николаем Романовым // Красный архив. 1928. Т.5(30). М.-Л., 1928. С.84. 42. Сын А.С. Хомякова, Д.А. Хомяков, сочувственно отнесся к ссылке архиерея в Жировицкую обитель. Авторитет епископа Гермогена в русском обществе был велик, его считали жертвой распутинских интриг при царском дворе. |
|
|
|
 20.2.2010, 4:08 20.2.2010, 4:08
Сообщение
#55
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
О кооперации в России: (Письмо К. И. Морозова к М. М. Литвинову)
В 1919—1920 гг. в Копенгагене в качестве неофициального представителя Советского правительства находился Максим Максимович Литвинов (1876—1951), впоследствии нарком по иностранным делам. Основной целью его миссии были переговоры с английским представителем О Грейди относительно возвращения русских военнопленных на родину. Попутно решались и иные вопросы. Именно в это время на имя Литвинова пришло письмо от К. И. Морозова, одного из представителей так называемых русских «заграничных кооператоров» — деятелей, возглавлявших заграничные отделения Центросоюза, созданного в сентябре 1917 г. Впоследствии, ввиду отказа руководителей этих отделений подчиниться правлению, находившемуся в Москве, выданные им прежде доверенности были аннулированы. Письмо Морозова — пространное рассуждение о судьбах кооперации в системе советского строя. Автор — кооперативный деятель с дореволюционным стажем, в прошлом эсер; в 1920 г. — председатель «Сибирьзакупсбыта», правление которого находилось в Лондоне. Реакция Литвинова на письмо неизвестна; вероятно, оно осталось без ответа. Самого же Морозова будущий нарком в одном из писем иронично окрестил «лондонским кооператором». Лондон, 20-го апреля 1920 г. Представителю Комиссариата Иностранных Дел Российской Федеративной Советской Республики, М. М. Литвинову, в Копенгаген. Многоуважаемый Максим Максимович, Настоящее письмо посылаю по личной инициативе, без разрешения и осведомления моих товарищей по кооперации. Цель его — совершенно откровенно высказаться о создавшемся положении и, принимая во внимание ту роль, которую Вы играете сейчас при разрешении судьбы России как здесь за границей, так и дома, — попытаться изменить то неправильное направление, которое, по моему глубокому убеждению, принято Советской властью в вопросе товарообмена. То обстоятельство, что я лично не знаком с Вами, облегчает объективность моего изложения. Задача моего письма — разобраться в создавшемся положении, как я его понимаю, в связи с ролью в нем кооперации. Я не коммунист, не контрреволюционер, не средний, не левый, не правый (несмотря на мои собственные политические взгляды). Я сейчас — только кооператор. Я не буду останавливаться на вопросе, почему необходимо или губительно для дела России и русского трудящегося народа то отношение к кооперации, которое создалось у Советского Правительства. Вернее, не буду останавливаться на теоретической стороне взаимоотношений между кооперацией и системой коммунистического государства, — в письме эта глубокая дискуссия не уместится. Постараюсь подойти к вопросу с чисто практической стороны, а попутно осветить некоторые факты, как я их понимаю. Еще в бытность мою в России, года два тому назад, А. Г. Шлихтер1 довольно подробно развил мне свою схему «химического несродства» между кооперацией и коммунистическим строем, схему, которая легла затем в основу советского законодательства по отношению к кооперации. Этим я хочу только предотвратить с Вашей стороны возможные возражения, исходящие из предположения, что я недостаточно хорошо знаком с вопросом и в логической связи с ним проводимыми Советским Правительством мерами по отношению к кооперации. После этого замечания я могу приступить к изложению своей «практической теории» этого вопроса. Я долгие годы занимался ранее политической работой. Но даже в период моей работы как политика-профессионала центр тяжести работы у меня состоял в обслуживании экономических организаций демократии и изучении преимущественно этой стороны дела. В частности, я в период политической работы много времени посвятил активной и теоретической работе в кооперации. Вы, как я понимаю и осведомлен, действовали наоборот. Другими словами, Вы специализировались в области чистой политики, я — в активной кооперативной работе. Давайте в этом условимся. Я знаю, что это не совсем укладывается в теперешней схеме синтеза кооперации и политики. Но ведь с точки зрения накопленного каждым из нас опыта и технического понимания — это все-таки так. И знаете ли Вы, что такое эта кооперативная работа и с какими трудностями она сопряжена? Понаслышке Вы знаете. Но только тогда, когда перенесешь ее, можешь, наконец, осознать, что это такое! Еще 14 лет тому назад, когда мы создавали первые маслодельные артели в Кадниковском уезде Вологодской губернии, делая пешком в зимнюю стужу два раза в неделю по 30—40 верст (средств для разъездов у нас не было), мы впервые натолкнулись на то, что нам нужно было преодолеть. Преодолеть нужно было темноту духовную, личный эгоизм, провести мостик от эгоизма темного, неграмотного человека к коллективизму. Я в то время был партийным работником социалистической партии2. Работал для партии как таковой. Но тогда же я на этой самой работе над человеческой заскорузлостью и пристрастием к консервативной традиции понял, что прошибить кору эгоистического отупения можно лишь действенной работой борьбы экономических факторов, факторов узкого эгоизма с эгоизмом группы, класса, и впоследствии — эгоизмом государства, живущего жизнью отдельной от иных государств. Я был хорошим крестьянским пропагандистом. Но все мои способности в этом отношении были ничто в сравнении с разбуженной экономической самодеятельностью. Социальный эффект последней получался неизмеримо больший, нежели все мои самые поэтические и действительно талантливые призывы «к лучшему будущему». Только борьба личного эгоизма с общей целью, только в тот момент, когда обрабатываемый мною человеческий материал вдруг оживал и понимал, что ему не за кого зацепиться, кроме как за самого себя, когда всякая мысль о чужой помощи, об опеке государства, партии — всего — его покидала и он видел себя совершенно беспомощным, предоставленным себе, принужденному бороться самому за себя, только в этот момент и просыпалась самодеятельность, в этот-то момент и проявлялась борьба за существование, которая фатально выливалась в борьбу за коллективизм и, если угодно, за коммунизм. В более поздний период так называемого расцвета русской кооперации, когда уже не в зимнюю стужу пешком, а в первом классе разъезжали мы для нашей кооперативной работы, предпосылки и результаты остались те же самые. Мне говорили о Вас как о человеке экономически образованном. Но то, что я говорю, — в этом моменте перехода эгоизма к коллективизму, от «меня» к «нам», — Вы, может быть, в книжке и прочитали где-нибудь, но понять, вернее непосредственно пережить и осознать, Вы, конечно, не смогли. Для этого нужно было быть «кооператором». Продолжаю. Если коммунистическое Советское Правительство хочет всерьез, а не «понарошку», как говорят дети, провести в жизнь принципы коммунизма, то борьба с кооперацией, с главным фактором ее бытия и сущности — самодеятельностью, борьба со свободной выборностью кооперативных правлений, по моему глубокому убеждению, влечет фатально к результатам, обратным желаниям коммунистического государства, — к насаждению таких эгоистических предпосылок, которые не только сотрут с лица земли малейшее напоминание о коммунизме, но и насадят строй, по сравнению с которым даже русское самодержавие было чуть ли не земным раем. Как бы ни были мудры и глубоко благородны цели и стремления идейных руководителей теперешнего русского коммунизма, но объективные экономические факты сделают свое дело. Что происходит сейчас в России в этой области? Вместо сознания личной ответственности, необходимости напрячь все свои силы до пределов не «меня», а «всех», вслед за созданием в кооперации нового «начальства», а не того «сукина сына нашего приказчика, который не доставил нам товару», у человека толпы атрофируются всякие стимулы к борьбе. При случае «начальству» и «морду набьют», и голову сломают, но... Это не будет самодеятельностью. Это — не «приказчик», а «начальство». Как оно прикажет — так и будет. Извиняюсь за упрощенные сравнения. Но нам-то с Вами, Максим Максимович, конечно, не приходится обольщаться иллюзиями относительно более глубокого понимания и отношения темной деревенской России, доставшейся в наследство коммунизму. Я не продолжаю своих сравнений. Вы сумеете их продолжить без моей помощи. Ну-с, а теперь позвольте перейти к положению вещей в нашем с Вами «вопросе». Какая создалась обстановка, объективная, независимо от наших и Ваших желаний? А вот какая. Антанта хочет русского хлеба, льна, масла и прочего. Нам с ней не детей крестить. Если можем — нужно ей этого всего дать. За это мы можем получить от нее машины, плуги, шпагату и прочее добро, при посредстве которого мы можем достать у нашего крестьянина и хлеба для рабочего населения, и того же маслица, и мясца, и всего, что может маленько поднять дух нашего пролетария, дошедшего сегодня из-за недоедания и борьбы с физической смертью (при победе последней, как общее правило) до полной физической, а тем паче моральной апатии и готового отдать своими руками за кусочек хлебца не только «Латвию», но и «Воронежию» и «Тверию». А уж про то, что при таком состоянии он может отдать не только «Керенскую свободу», но и «Ленинскую диктатуру», не может быть и речи. Это — одно. А другое — такое. «У каждого руки к себе гнутся». Я не обвиняю Антанту, что у нее к себе руки гнутся. У меня — как россиянина — тоже к России руки гнутся. У Вас — как российского дипломата на международном рынке купли и продажи — тоже руки должны гнуться к России, которую хотят купить на международном аукционе в Копенгагене или Лондоне, или Париже, или Риме. Вопрос, значит, в том, чтобы каждому не продешевить. И вот — явилась презумпция — золото, платина, Китайский заем. Как и я, Вы, конечно, понимаете, что это не дело. В особенности не дело — концессии. А ведь кроме концессии — другого исхода по существу не остается. Посмотрим на последствия этих концессий, если они «по-всамделишному» пройдут. (Не по-«всамделишному», конечно, о них не может быть и речи: и Крезо, и Путилов достаточно умны, чтобы питать мысль их провести на этом — они-то уж добьются и сумеют добиться действительных гарантий). Итак, концессии. Их придется дать много: и на леса, и на недры, и на железные дороги. При теперешнем положении России — гораздо в большем количестве, нежели то, что осталось в российской индустрии в неконцессионированном виде. Дать концессии — значит обеспечить известную свободу внутреннего их управления. Так как путиловский рабочий не получает достаточно хлеба, одежды и проч., а иностранному капиталисту-концессионеру не трудно будет доставить все это для своего «государства в государстве», то, естественно, что лучший и наиболее выживающий рабочий уйдет с огосударствленной фабрики коммунистического государства к концессионеру. Это первое. Второе последствие — тоже понятное — безболезненное международное завоевание России всеми, кому не лень. А знаете ли Вы, Максим Максимович, что это такое? Может быть, знаете, а может быть, и нет. Вот у нас в Сибири было такое Датское Товарищество по сбыту масла — «Сибирская Компания». Что это такое, можно выяснить только в анналах сибирской маслодельной кооперации. Но уж во всяком случае, Вы понимаете, что это было очень далеким от коммунистического идеала; даже самый мелкобуржуазный республиканский строй представляется раем по сравнению с владычеством «Сибирских Компаний» с правлением в Дании. Не будем увлекаться. Ведь и Вам и мне известны уступки, сделанные Советской властью в этой области. Гарантии Ваши и Советского Правительства в том, что ни Вы, ни все остальные представители Советской России за границей не будут вмешиваться во внутренние дела союзных Правительств, т. е. что Советским Правительством не будет вестись коммунистической агитации, убьют возможность осуществить главную цель Российской Советской Коммунистической Республики — работу по осуществлению социализма за границей. Эти гарантии исключают основную расплату Европы перед Советской Россией за могущие быть данными Европе концессии. Итак — концессии, т. е. самая невыгодная плата за «обглоданную кость», которую может выкинуть Европа России. Но почему же не дешевле? Почему же не товарообмен? При котором положение России, как обладательницы сырья, будет наиболее благоприятным. Ведь на нем-то лучше всего поторговаться. Сырья, Вы знаете, у нас много, хлеба может быть тоже не мало, и совершенно излишнего — и Питеру хватит, и Европу накормим, и для нового хлеба машины получим. За чем дело стало? А только за тем, что без кооперации — ничего не получишь. Да, без кооперации. Не без меня, конечно, или Коробова, или Беркенгейма и Авсаркисова3. А без кооперации как таковой. Человек, сегодня случайно назначенный комиссаром, — не кооперация. Ему мужик ни хлеба, ни шерсти не даст. Вы знаете, вероятно, что мужик сожжет, в землю закопает, а «начальству», которое никогда не найдет с ним общего языка, ничего не даст, да еще за бумажные деньги. Сейчас, в этот переходный период, он даст только себе, т. е. кооперации, настоящей, своей, собственной. И неужели эта самая кооперация, при сравнительных других противопоставляемых ей факторах, лучше, милее для Советского Правительства, нежели Крезо4 и Путилов5, с таким нетерпением поджидающие Вас и А. Б. Красина6 на предмет покупки оптом и в розницу России. Тут ведь какое-то крупное, трагическое недоразумение, в результате которого ни Советского Правительства, ни кооперации, ни демократии, ни даже Путилова и Крезо не останется, а выживет на место их наш старый знакомый «Иван», присужденный к вечной каторге за фабрику фальшивых монет и убийство дюжины детей, а теперь утекший с каторги, занявший где-нибудь должность провинциального комиссара, наворовавший в этой должности бриллиантов и в ближайшем будущем могущий фигурировать в виде «частной инициативы, столь притесняемой», т. е. такой буржуазии, которой не видала еще история. Позволю себе далее обратить Ваше внимание еще на несколько фактических объективных данных в той неразберихе, которая произошла во всей этой истории с «кооперативным камуфляжем». Советская Россия (заметьте — «Советская», а не какая-либо другая) была весь этот период под блокадой. Население вымирало. Советское Правительство тоже, вероятно, не особенно дружелюбно относилось к факту блокады. Ситуация в Европе была такова, что объективно не было выхода из положения: Антанта боялась большевизма больше всего на свете. Ни за что не могла согласиться на его признание. Демократия в Европе, правда, с чрезвычайным интересом следила за коммунистическим экспериментом в России, но у себя-то дома оказалась не настолько «подготовленной», чтобы завести такую штуку. Лишняя порция джема или молока — и отказ от решительной революции демократии в Европе. Ну-с, и при таком безвыходном положении нашлась русская кооперация, которая хотела или не хотела, но прорвала блокаду: в качестве санитара на войне подползла к умирающему русскому городскому населению и нищающему без товарообмена мужику. Какое же положение заняли Вы? «И он же батрака ругает: «Зачем испортил шкуру». Конечно, заранее с Вами согласен, что не за прекрасное лицо кооперации русской возлюбила ее Антанта, не увлеклась она невинностью и добродетелями оной русской кооперации: ей нужен был хлеб, лен, шерсть и прочее русское добро. Но все же, объективно-то, создалось положение, что другого модуса вивенди в данный момент не оказалось. А за сие — Вы, или вернее в Москве, решили дать порку кооперации: «Зачем испортил шкуру». Я не хочу входить подробно в слишком сложные по сему случаю размышления относительно особенно «тонкой» политики Советского Правительства по отношению к Антанте. Боюсь только, что она настолько утоньшилась, что может порваться: где тонко, там и рвется. Я сознательно не хочу вмешиваться в политику этого рода, мешать кому-либо, и Вам в частности, в чем-либо в проведении той или иной политики: недаром я сознательно отошел от нее и недаром совершенно искренно (не подумайте, что это ирония, — пишу честно и правдиво) отдаю в этих вопросах Вам дань первенства, как политическому деятелю. Но позволяю себе в этом вопросе остановиться только на некоторых частностях. Ведь если это «тонкое» положение оборвется, то русский пролетарий и мужик не получат того, что им нужно. А им нужен товарообмен, товарообмен и товарообмен. Узнав о Вашей и Советского Правительства программе товарных операций, я не нахожу ее в принципе заслуживающей порицания. Действительно, необходимы локомотивы для товарообмена в первую очередь. Но локомотивы одни не могут послужить импульсом для того, чтобы мужик отдал свое добро. Ни пушки и сожжение целых деревень, как то практиковалось у Колчака, ни «третий сноп» Деникина, ни Комитеты Бедности и реквизиции Красной Армии в Советской России этого хлеба не добудут. Не добудут его и «кооперативные коммуны», подставленные вместо кооперации. Это подтвердил уже опыт. А поэтому, если нужны действительно локомотивы для перевозки этого хлеба, шерсти, льна, мяса и масла, то ведь нужны и действительные импульсы для вызова этих предметов от крестьянина, и импульсы, выработанные не в экспедиции заготовления государственных бумаг и других типографиях. А время не ждет. Ведь в смысле простого физического выживания России (не говоря уже о торжестве коммунистических, буржуазных или монархических принципов) данный момент критический. Вы лучше меня осведомлены о положении, переживаемом сейчас Россией. Ждать нельзя ни минуты. Когда-то улита едет, когда-то будет. Когда-то привезут паровозы, когда-то наладятся мосты на железных дорогах, придут в пригодное состояние вагоны, полотно железных дорог, когда-то подкормятся ремонтные мастерские — не так-то скоро! А между тем май месяц и навигация на носу. Если не использовать сейчас навигацию в смысле товарообмена, то, может быть, и локомотивы зимой или к будущей навигации никакой службы не сослужат. А практически это значит: если бы Вы, а через Вас в Москве, немедленно изменили тактику в отношении единственно реального настоящего аппарата для снабжения в сегодняшний день — кооперации, то при настоящей и международной ситуации и нашем положении за границей мы могли бы ведь сделать колоссальное дело, разрешить неимоверно трудную задачу. Через два месяца Мариинская система работала бы уже вовсю по перевозке заграничных товаров, которые могли бы быть заготовлены нами в надлежащем количестве, лишь бы были гарантии. А если бы кооператоров в России, вместо держания в черном теле комиссарского повиновения, призвали бы для другой работы, то эти гарантии были бы не бумажные, а, вероятно, одновременно же осуществились бы путем сборки сырья (излишнего, которое крестьянин прячет под спуд) для обратного следования по той же Мариинской и другим системам и без паровозов — на чем Бог послал, хотя бы на плотах. И вместо уже очень большого количества паровозов и очень большой траты последнего золота, может быть, значительное количество паровозов можно было бы заменить материалом для починки этих паровозов, который можно было бы приобрести в короткое время, если не при нашем посредстве, то при нашей помощи и указаниях. Неужели мешает только боязнь дать свободу кооперации, как страшной угрозе коммунизму. Не могу понять только одного — как не мешает этому концессионная система?!. Мне кажется, что в отношении «контрреволюционности» кооперации давно бы пора бы положить предел бабьим сказкам. Уж что другое, а политический оппортунизм кооператоров, и самых крупных, на виду давно: оппортунизм искренний, принципиальный, ясный, ставящий одно условие — не менять кооперацию на Путиловых и Крезо. Другой дилеммы у кооператоров нет. Почему же выбираете Крезо, копенгагенского спекулянта, и всех прочих им подобных, даете им гарантии и преимущества, а на кооперацию, только за то, что она хочет остаться свободна в своей самодеятельности, хочет влить в население максимум этой самодеятельности, сыпете громы и молнии, обескровливаете ее, уничтожаете единственный оплот, оставшийся для восстановления физического (только физического, а не какого-либо иного, по формуле «не до жиру — быть бы живу») ее сопротивления окончательному порабощению экономическому со стороны всех, кому не лень? Мне передавал Беркенгейм Ваше одно положение «нельзя же быть государству в государстве», т. е. нельзя оставлять самодеятельность кооперации без контроля со стороны государства, — слишком она большая, мол. Да ведь об этом-то и речи быть не может. На какой на черт, извините за выражение, функции государства? Ведь сейчас мы только мечтаем о функции санитара, желающего раненого, голодающего, умирающего, разоряющегося, трудящегося человека подобрать и тому же государству помочь, чтобы хоть маленько от невиданной анархии предохранить. Контроль — так контроль. Никогда ведь и в былые времена не протестовали против контроля кооператоры. Только ведь контроль-то не значит — уничтожение самодеятельности населения, уничтожение выборных правлений. Нам с Вами, Максим Максимович, не нужно, кажется, особенно разъяснять разницу между этими понятиями. Контроль — не означает также изменение кооперативного строительства по декрету. Как кооператор, могу сказать Вам, что создание форм объединений — действительно самое трудное дело. И тут уж никакие декреты не помогут. Так трудно, так трудно найти формы кооперативного объединения, что Вы можете узнать это, только поработав над этим, поверьте на слово, говорю с чрезвычайно горьким и тяжелым чувством. И повторяю — декретом можно, конечно, все сделать, но только на бумаге. А что получится при необходимости использовать такой декрет, как, например, сейчас объединение всех «в Центросоюз», увидите после, меня помянете, да будет поздно, если вовремя не отмените. Может быть, вместо всех возражений, Вы скажете: «Да ведь нужно, вот сейчас так устроиться, по международным соображениям, чтобы парировать кооперативный камуфляж». Возражение веское, а главное, понятное для выполнения той задачи, которую Вы себе ставите. Но это безнадежное дело: ведь сейчас даже этого и не нужно. По существу дела, никто сейчас в Европе и не думает, что приехавшая делегация и Вы — кооператоры. Все отлично понимают, в чем дело. Так неужели, для сохранения теперь никому не нужной фикции, Вы станете портить в конец кооперативную работу, для Вас не вредную, населению полезную, для товарообмена — единственно возможную и неизбежную, хотим ли мы с Вами этого или не хотим. Я не делаю выводов, не подвожу итогов сказанному. Все сказанное — уже само по себе итог. И если Вы в них вдумаетесь, найдете для этого время, может быть, будет не поздно исправить то, что, я глубоко убежден, Вы сами найдете большой ошибкой. Писал Вам это письмо честно и правдиво. И это дает мне возможность думать, что Вы, «авторитетный» политический деятель, но абсолютно не «авторитетный» Председатель «кооперативной делегации», вслушаетесь в мои, может быть, и обывательские рассуждения политического характера, но «авторитетные» рассуждения кооператора, который не хочет быть ничем больше этого. Добавлю еще одно. Не надейтесь, что иностранный (не говорю уже о русском) частный торговый капитал что-нибудь сделает и чем-нибудь поможет Вам, если Вы подставите его взамен кооперации в формулу товарообмена. Говорю это по опыту, ибо попытки эти были до Вашего приезда сюда, в других условиях товарообмена с Россией, более благоприятных для этого, для частного торгового капитала, нежели те, которые для него существуют в Советской России. На первых порах пойдет будто бы гладко, а затем — кто за это возьмется сейчас из частных торговцев — и себя зарежет, и... Вас зарежет. Это считаю долгом сказать Вам по совести. С совершенным почтением К. Морозов. Примечания Публикуется по машинописному экземпляру, хранящемуся в Архиве внешней политики СССР МИД РФ (ф. 168, оп. 1, папка 2, ед. хр. 13, лл. 8—15). 1 Шлихтер Александр Григорьевич (1868—1940), советский государственный и партийный деятель. В 1917—1918 гг. — нарком земледелия, нарком продовольствия РСФСР. 2 К. И. Морозов состоял в партии эсеров. 3 Автор перечисляет имена русских «заграничных кооператоров». 4 Имеется в виду французское акционерное общество «Шнейдер-Крёзо» («Шнейдер и Ко»). 5 Путилов Алексей Иванович (1866 — не ранее 1926), промышленник и финансист. После революции эмигрировал во Францию, где возглавлял Парижское отделение Русско-азиатского банка. 6 Красин Леонид Борисович (1870—1926), советский государственный и партийный деятель, нарком внешней торговли. В 1920 г. возглавлял делегацию уполномоченных Центросоюза («Миссия Центросоюза») на торговых переговорах с представителями Антанты в Копенгагене и Лондоне. Публикация А. А. БЫКОВА и В. В. САМСОНОВА |
|
|
|
 22.2.2010, 7:02 22.2.2010, 7:02
Сообщение
#56
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Барон Мюнхгаузен — российский кирасир: Документы 1739—1741 гг.
В июле 1737 г. при штурме турецкой крепости Очаков отличился высокопоставленный волонтер русской армии принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Во время жаркого боя один из его пажей был убит, а другой ранен. Но немецкий принц мог не беспокоиться о пополнении своего штата. Юные слуги, находившиеся при Брауншвейгском дворе, с радостью напрашивались на каждое путешествие. Генералиссимус герцог Антон Ульрих Брауншвейг-Люнебургский И действительно, в ноябре-декабре того же 1737 г. из Вольфенбюттеля пришли известия о скором отъезде в Санкт-Петербург новых пажей. Одного из них звали Иеронимус Карл Фридрих фон Мюнхгаузен*. Так началась «российская» биография легендарного барона Мюнхгаузена, человека удивительной судьбы и беспримерной славы. Почти через пятьдесят лет он станет прототипом популярнейшего литературного героя. Талантливые книги Распэ и Бюргера, замечательные иллюстрации Дорэ, счастливый графический облик — шляпа-треуголка, ботфорты, шпага, косица с бантом, само имя — повсюду вызывают неизменные симпатии. Однако в сознании многих современников, а тем более потомков, исторический барон и барон литературный слились в единый образ. Читателей и исследователей занимали, как правило, его книжные приключения, хотя и реально существовавший Мюнхгаузен не был обойден вниманием**. Главные вехи его жизненного пути восстановлены по имеющимся в Германии источникам. Иеронимус фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г. в наследственном поместье Боденвердер, недалеко от Ганновера. С 1735 по 1737 г. состоял пажом правящего Брауншвейгского герцога Карла, который и отправил его к брату в Россию. В 1739 г. Мюнхгаузен был определен корнетом в кирасирский полк; в 1740 г. — он уже поручик, а в 1750 г. — ротмистр. Еще в 1744 г. он женился на лифляндской дворянке Якобине фон Дунтен; однажды ездил домой в отпуск, окончательно покинув пределы Российской империи в конце 1750 г. На родине вел жизнь типичного помещика: занимался хозяйством, судился с крестьянами, забавлялся охотой, прослыв на дружеских пирушках бесподобным рассказчиком невероятных историй. Появление в печати своего двойника, по крайней мере внешне, Мюнхгаузен встретил с неудовольствием. В 1790 г. он потерял жену. Последние годы жизни были омрачены неудачной женитьбой бездетного барона, судебными тяжбами и болезнями. Он умер 22 февраля 1797 г. и похоронен в древней монастырской церкви... К сожалению, сведения о пребывании Мюнхгаузена в России ограничивались отдельными скупыми фактами. А между тем именно впечатления молодости, прошедшей в далекой и загадочной для европейца стране, легли в основу увлекательных и, возможно, не таких уж и баснословных рассказов. И это не случайно. За минувшие столетия огнем, водой и людским небрежением уничтожены документы, которые буквально день за днем позволили бы воссоздать послужной список самого знаменитого российского кирасира. Недаром еще полковые историки сетовали на отсутствие архивных материалов, относящихся к XVIII в.* И тем не менее «настоящий» барон не затерялся на страницах отечественной истории, и к счастью, не все эти страницы оказались утрачены. Предпринятые нами архивные разыскания дали значительные результаты**. Достаточно указать на десятки автографов, чтобы представить уникальность этих источников; не говоря уже о содержательной стороне документов, касающихся военной карьеры Мюнхгаузена. Иеронимус фон Мюнхгаузен Совершенно конкретную трактовку получили те или иные сюжеты. Так, если вопрос о его участии в русско-турецкой войне 1735—1739 гг. пока остается открытым, то в отношении русско-шведской войны 1741—1743 гг. подобный вопрос можно считать вполне выясненным. В «особливой ведомости» Военной коллегии, направленной в императорский Кабинет, среди «отлучных же за делами ея императорского величества» в «бывшую шведскую войну» мы обнаружили и интересующую нас персону: «Того ж полку (Кирасирского его императорского высочества — А. К.) Минихгаузен находился в Риге при оставшей от того полку команде и в компании не был»*. Вместе с незабвенным бароном на документальном уровне возвращается целый историко-культурный пласт XVIII столетия. Первая систематическая публикация, раскрывающая обстоятельства службы Мюнхгаузена в 1739—1741 гг., включает материалы официального делопроизводства военного ведомства. Прежде всего это рапорты, ордера и другие полковые бумаги. Сохранность столь обширного комплекса объясняется, как ни странно, превратностями политического развития — попыткой вычеркнуть из исторической памяти кратковременное царствование Иоанна Антоновича. В правление Императрицы Елизаветы и ее ближайших преемников было изъято, уничтожено или сокрыто огромное количество дел с так называемым известным титулом. К ним относилась и полковая переписка, немалая часть которой также безвозвратно погибла. Обнаруженные документы характеризуют Мюнхгаузена как профессионального военного — офицера русской армии, задавая масштаб восприятия и понимания его фигуры в контексте эпохи. Будучи пажом, он занимал скромную, но весьма почетную ступень общественной иерархии. Перед ним открывались неплохие перспективы, тем более что, прибыв в страну на исходе царствования Анны Иоанновны, он был свидетелем невиданного возвышения и влияния иностранцев. Внешняя роскошь Петербургского двора не могла не поразить и не захватить молодого человека. Балы и концерты, торжественные приемы и церемонии, фейерверки и гвардейские парады, охота и другие развлечения сменяли друг друга, скрывая подчас жестокую и беспощадную борьбу правящих группировок. Имевший необходимую выучку, Мюнхгаузен вряд ли слишком тяготился исполнением служебных обязанностей. Среди важнейших событий тех лет, по всей видимости, было его участие в подготовке своего патрона к летней кампании 1738 г., а также в долгожданной свадьбе Антона Ульриха и племянницы российской Императрицы в июле следующего года. Тогда Мюнхгаузен находился в том возрасте, когда почти каждый дворянин посвящал себя военному делу. В декабре 1739 г. он становится офицером Брауншвейгского кирасирского полка — весьма престижной части русской армии. Полки российских латников-кирасир были сформированы в начале 30-х гг. для усиления боевой мощи и успешных действий как против легкой турецкой конницы, так и против западной тяжелой кавалерии. Ряд преимуществ отличал их от остальной армии и приближал к гвардии. Они были расквартированы в наиболее удобных местах, получали повышенные оклады жалованья, имели превосходство в чинах. У кирасирских офицеров было больше шансов продвинуться по службе, несмотря на то, что часто не хватало вакансий, а казенное содержание не покрывало даже обязательных расходов на дорогой мундир и лошадей. Отправившись к полку, Мюнхгаузен покинул Санкт-Петербург, пушечной пальбой, иллюминациями и маскарадами празднующий заключение мира с Турцией; город с блистающим среди дворцов «Ледяным домом» — довольно зловещим символом уходящего десятилетия. В 1740 г. он уже в Риге, где находит очень хороший прием у дам и кавалеров. Это естественно, если вспомнить особое положение Лифляндии и Эстляндии, отошедших к России в ходе Северной войны. Прибалтика обладала значительной автономией, являясь для империи прежде всего оборонительным и наступательным плацдармом. Потомки немецких крестоносцев, завоевавших эти территории еще в XIII в., а также горожане из немцев сохранили и даже укрепили относительную независимость. Остзейские бароны, гордо именующие себя рыцарством, распоряжались в местных органах самоуправления, добились почти неограниченной власти над крестьянами, исключительного права на земельную собственность. Они были вольны служить или не служить русским монархам. В городах заправлял патрициат — верхушка немецкого бюргерства, цехи ремесленников ревностно оберегали свою неприкосновенность, а торговцы стремились не допускать в свои ряды чужаков. Язык, вера, традиции, архитектурный облик средневековой Риги напоминали новоиспеченному корнету о доме. В этой среде он вполне мог чувствовать себя своим. Представитель уважаемого в Европе дворянского рода, протеже отца российского Императора, офицер привилегированного кавалерийского полка, командовавший первой ротой, состоящей при генерал-губернаторе, — все это обеспечивало достаточно высокий статус и обещало многое в будущем... Конечно, наиболее привлекательной была парадная сторона кирасирской службы. Могучие кони, отборные всадники, богато украшенные мундиры; грохот литавр и звуки серебряных труб — производили незабываемое впечатление. Ярким зрелищем для рижан и приезжих становилось участие кирасир в различных церемониях. С восторгом отзывались о российских латниках именитые очевидцы, как это было, например, в 1744 г.: «Я очень хвалила виденные мною (войска — А. К.) и в особенности кирасирский полк, который действительно чрезвычайно красив»*. Первая рота, или лейб-компания, считалась в полку образцовой, поэтому поддержание в ней надлежащего порядка требовало от Мюнхгаузена немалых усилий. Квартируя в крупнейшем военно-административном центре, он часто выступал в роли ходатая и посредника, отстаивая полковые интересы. Нелегко, как видно, давалось овладение премудростями русского языка, на котором велась официальная переписка, а главное, навыками бумаготворчества. В послужных документах ротмистра Мюнхгаузена начала 50-х гг. по поводу умения читать и писать сказано: «умеет по немецки, а по руски только говорит»**. Но это была общая проблема для офицеров-иноземцев, составлявших большинство в кирасирских полках. Помимо лифляндцев, эстляндцев и курляндцев, в них служили австрийцы, пруссаки, англичане, французы, итальянцы, ганноверцы и т. д. Фактически целый год жизни «благородного и почтенного господина порутчика» Мюнхгаузена отражен в представленной публикации. Благодаря его незаурядной судьбе востребованы оригинальные, ценнейшие источники, обычно не удостаивающиеся воспроизведения. В них зафиксированы не только любопытнейшие подробности армейского быта, взаимоотношения начальников и подчиненных, конфликтные и даже анекдотические ситуации. Сквозь бесстрастную констатацию фактов, повседневную рутину, канцелярский стиль проступают силуэты «больших» и «маленьких» людей, очерчиваются характеры; звучат живые голоса и интонации, создавая неповторимую атмосферу ушедшего времени. Мировая «Мюнхгаузиада» пополнилась интереснейшей российской главой, и есть все основания полагать, что она будет не последней. ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 1739 г<ода> декабря 5-го дня, среда Господа присутствующия в коллегии прибыли пополуночи: Генерал-майор Измайлов1 в 9-м часу Обер-секретарь Ижорин В присутствие слушано: Объявление генерала, ковалера и ея императорскаго величиства2 генерала-адъютанта господина Ушакова3 о пожаловании пажа Гиранимуса Карла Фридриха фон Минихаузина в Вонфельбительской кирасирской полк4 в карнеты. Решено: Определить в тот полк и на чин дать патент. ПРОТОКОЛ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ № 86 По указу ея и. в., объявленному чрез генерала, ковалера и ея и. в. генерала-адъютанта господина Ушакова, сего декабря 5-го дня государственная Военная коллегия приказали: Пожалованного из пажей Гиранимуса Карла Фридриха фон Минихаузина в кирасирской Брауншвейской полк в корнеты определить в том полку на порозжую ваканцию1 и жалованье давать2, а при первой даче за повышение вычесть на гошпиталь. И верности присягу учинить ему при команде как указы повелевают. И для того велеть ему при команде явитца на срок по регламенту, в чем взяв от него реверс3, для проезду дать пашпорт и на чин патент. А х команде и для ведома в Обер-цалмейстерскую4 и Провиантскую канторы послать указы. А в Кабинет ея и. в. для известия подать репорт. Петр Измайлов G. W. de Hennin5 Обер-секретарь Петр Ижорин Декабря 8-го дня 1739 года Секретарь Иван Рудин Пометы: № 34. Копию взял Иван Некрасов. РАСПИСКА МЮНХГАУЗЕНА В ПОЛУЧЕНИИ ПАТЕНТА НА ЧИН КОРНЕТА <1739 года декабря> в 19-й де<нь> <№> 736 Кирассирского Брауншвейгского полку карнету Гиронимусу Карлу Фридриху фон Минихаузину из пажей 1739 года декабря 4-го дня. Ich habe das obegemalte empfangen* H. C. F. von Munchhausenl Расписка Мюнхгаузена в получении патента на чин корнета |
|
|
|
 26.2.2010, 3:57 26.2.2010, 3:57
Сообщение
#57
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
О гибели Грибоедова
Публикуемый рассказ о гибели А. С. Грибоедова записан супругой Николая Андрияновича Аничкова (1809—1892), видного дипломата дореволюционной России, с его слов. Осведомленность последнего не вызывает сомнений. С 1834 г. Аничков служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Затем был генеральным консулом в Тавризе, главою русской миссии в Тегеране, чрезвычайным посланником и полномочным министром при Дворе шаха персидского. За годы заграничной службы ему не раз приходилось сталкиваться с очевидцами (и участниками?) катастрофы 1829 г. Об этих встречах и беседах дипломат поведал жене. Разумеется, к свидетельствам, исходящим из шахского окружения, должно относиться весьма настороженно: они вряд ли искренни. Определенную сдержанность надо проявить и к записи М. Аничковой, которая, судя по всему, не принадлежала к числу высокообразованных особ. Возможны и аберрации памяти. Тем не менее сведения, ею сообщаемые, иногда подтверждаются другими источниками. Думается, что мемуарная запись заслуживает быть включенной в корпус документов, анализирующих обстоятельства давней тегеранской трагедии. Трагедии, многие аспекты которой не выяснены и поныне. Со слов Н. А. Аничкова Разсказ Дедушки нынешняго Шаха персидскаго, Казим Мирзы об Грибоедове. Когда бывало Грибоедов приходил к Шаху1 на ауденцию*, то садился, то вставал как сумасшедший, ходил по комнате, не садился и произносил бранныя слова, самовольно вскакивал с места и прохаживался по комнате, бранился2. Персидский Шах** смотря на поведение Грибоедова очень сердился на него и говорил, что нужно наказать русскаго посланника Грибоедова. Грибоедов часто прохаживаясь по комнате плевал на пол и бормотал. По словам же Мелик Касим Мирзы, Шах приходил в Андерун (женская половина Шахских жен) и говорил что нужно пугнуть Грибоедова. Но никак он не думал, что все это кончится так печально для Грибоедова. Грибоедов велел казакам стрелять в народ; как лишь убили однаго персиянина, разумеется фанатизм взбударажился и народ подняв убитаго понес по городу и потом к Муллам, которые не долго думая разрешили народу разгромить Русскую миссию. Когда народ хлынул на Русскую миссию, всех убили и даже стены разнесли, остался жив один секретарь Мальцев3, которого курьер Миссии4 завернул в персидский ковер и поставил в чулан, что бы народ его не видал5. Курьер этот несчастный получил 14 ран, ему пожаловало наше правительство, кажется, офицерский чин и орден, который и надел себе на шее. Но богатый Мальцев по своей скупости ничего не дал бедному и семейному курьеру. В*** 1878 году мой муж видел Мальцева в Нице, и ему сказал, что его спаситель курьер до сих пор, кажется, жив и живет в большой бедности. Мальцев только покачал головою. 22 апреля 1890 года. М. Аничкова. Post. S. Эти подробности никому не известны. Примечания Публикуется по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 136, оп. 1, ед. хр. 52). 1 То есть к Фет-Али-шаху (1762—1834). 2 О «тегеранском» Грибоедове, как о «господине в высшей степени раздражительного характера», отзывались и другие современники. Так, граф И. О. Симонич писал, что «мой несчастный друг, покойный Грибоедов, в отношении к шаху принял надменный тон, доходивший до безрассудства» (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., «Федерация», 1929, с. 206). О «настойчивости» Грибоедова сообщал барон К. К. Боде (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 201) и т. д. 3 Мальцев (Мальцов) Иван Сергеевич (1807—1880), первый секретарь русской миссии в Персии. 4 Не исключено, что имеется в виду Амбарцум (Ибрагим-бек), уцелевший курьер миссии. Его рассказ о гибели Грибоедова, записанный неким Г. А., впоследствии был опубликован в «Русской Старине», 1901, октябрь, с. 66—68. 5 По другим сведениям, Мальцев спасся от гибели в частном доме неподалеку от штурмуемого посольства. Публикация редакции Из писем М.М.Бакунина "......Превозносится человек часто к гибели своей. Пример сему — Грибоедов. Он не от болезни умер, а насильственной смертию. Точных подробностей еще не знают; вернейшие кажутся, что в дороге люди его поссорились с Персиянами, он вступился за своих и запальчивые Персияне его закололи и многих из бывших с ним. Полное Шах дает удовлетворение, но они уже не воскреснут. Каково для матери и сестры Грибоедова! Жена его осталась беременною...." ..................................... "...Из «Московских ведомостей»19 вы должны уже знать о несчастной участи Грибоедова и свиты его в Тегеране. Остался в живых секретарь Мальцов и три еще человека, и те, полагать должно, изранены. Сие дело не имеет никакого сношения с политикою и последовало от необдуманной надменности, кажется, с нашей стороны и зверства и фанатизма — с другой. Говорят, что требовано было возвращения двух увезенных грузинок, которые невольно приведены были в магометанство. Говорят, что и шах был согласен, и находились уже в доме посланника, но муллы подбили народ. Верного — только убивство, а подробности еще гадательные. Сказывали мне, что есть уже в Тифлисских газетах, что турки в 20. 000 и с большою артиллериею обложили Ахалцих, который защищал один батальон Шериванцев, что они две недели отражали превосходного неприятеля, что подоспел к ним на помощь полковник Бурцов с 3000, что турок разбили на голову, взяли много в плен и всю артиллерию. Начало славное и сделает и для сей кампании впечатление на неприятеля20. Пишут из П<етер>бу<рга>, что Государь Император с Императрицею и наследником после праздника вскоре поедут в Варшаву. Полагать должно, что там или на границах будет свидание с Королем Прусским — отцом и дедушкою".... .................................. Сидоров И. С. [ Письма М. М. Бакунина] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1992. — С. 91—92. — [Т.] II—III. Трагедия в Тегеране разыгралась 30 января 1829 г.*. Когда и как узнали об этом в Петербурге и Москве? Согласно опубликованным документам**, российский консул в Тебризе А. К. Амбургер узнал об этом через неделю и 8 февраля направил в Тифлис рапорт главноуправляющему Кавказской областью И. Ф. Паскевичу и донесение министру иностранных дел К. В. Нессельроде. Одновременно с этими посланиями Паскевич получил 22 февраля известие и от находившегося в Тифлисе персидского чиновника Мирзы-Салеха, который, в частности, предоставил ему выписку из письма генерал-губернатора Тегерана к наследному принцу Аббасу-Мирзе от 30 января с описанием произошедших там событий. 23 февраля Паскевич отправил письмо Нессельроде, приложив донесение Амбургера и материалы, полученные от Мирзы-Салеха. Петербургский почт-директор К. Я. Булгаков в письме к брату А. Я. Булгакову в Москву от 15 марта*** писал, что накануне были получены сведения о тегеранской трагедии****. Немедленно со всеми материалами был ознакомлен император Николай I. К 15 марта была выработана позиция правительства, сообщенная Паскевичу в послании Нессельроде от 16 марта: «При сем горестном событии его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской, а с другой стороны, известному фанатизму и необузданности сей самой черни, которая одна вынудила шаха и в 1826 г. начать с нами войну»*****. Тогда же, вероятно, был согласован и характер публикации в газетах. Сообщение это появилось 16 марта на французском языке в «Journal de Saint-Pétersbourg» под рубрикой «Внутренние известия. Санкт-Петербург, 15 марта» со ссылкой на некие письма, полученные из Тегерана. От кого и кем были получены эти письма, не указывалось. Заметка содержала краткий рассказ о разгроме посольства и гибели почти всех его сотрудников (без каких-либо указаний на возможные причины или повод) и показывала непричастность к этому персидских властей. 18 марта это же сообщение появилось в «St. Petersburgische Zeitung» в переводе на немецкий язык и в «Санкт-Петербургских Ведомостях» в переводе на русский язык. 19 марта в собственном переводе на русский язык его опубликовала «Северная Пчела», а «Русский Инвалид» дал перепечатку из «Санкт-Петербургских Ведомостей». Заметим, что не во всех газетах эта заметка была напечатана на первой полосе. Так, в «Северной Пчеле» она оказалась на второй полосе (между объявлением монаршего благоволения астраханскому губернатору за поставку армии 1000 верблюдов и сообщением о прошедших публичных испытаниях в частном пансионе пастора фон Муральта), а в «Русском Инвалиде» — на третьей полосе. В Москву официальное сообщение попало 20 или 21 марта с газетой «Journal de Saint-Pétersbourg»******. Но «Московские Ведомости», очевидно, дожидались прибытия «Санкт-Петербургских Ведомостей», чтобы перепечатать заметку оттуда. Эта петербургская газета пришла в Москву, вероятно, 22 марта, когда очередной номер «Московских Ведомостей» (№ 24 от 23 марта) был уже сверстан. Поэтому срочно было набрано и на отдельном листке напечатано «Прибавление к № 24 Московских Ведомостей 1829 года», которое рассылалось вместе с газетой. Однако московские слухи значительно опередили газеты. Можно с большой уверенностью утверждать, что первые известия о гибели Грибоедова проникли в Москву 15 марта* и, следовательно, никак не могли происходить из Петербурга, а к моменту получения петербургских газет и выхода «Московских Ведомостей» по частным каналам в Москву уже проникли подробности, которых не было в газетном сообщении, но которые содержались в бумагах, доставленных из Тифлиса. Судя по содержанию публикуемого ниже письма от 26 марта, эти подробности восходят к уже упоминавшемуся письму К. Я. Булгакова от 15 марта. |
|
|
|
 26.2.2010, 13:20 26.2.2010, 13:20
Сообщение
#58
|
|
 Активный участник    Группа: Авторы статей Сообщений: 363 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 247 |
100 лет со дня рождения Адмирала главкома ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова. Цитата "...Как-то в бытность пребывания на посту главкома ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова, был такой случай. В 1970-м посетил Горшков как-то занятия по тактике в одном из военно-морских училищ. И вот там, на занятии, один курсант с крайне умным видом начал рассусоливать о том, как он будет осуществлять перехват в море пары вражеских крейсеров, сам при этом имея 4 корабля подобного же класса. Мысль курсанта сводилась к тому, что из 4 крейсеров ПУГ (поисково-ударной группы) следует сформировать 3 отдельных отряда. Один крейсер пойдёт впереди в качестве головного дозора, два образуют главные ударные силы, а четвёртый потащится сзади резервом. Услышав этот апокриф, импульсивный Горшков вскочил с места и, растолкав свиту, лично подбежал к курсанту. Дальше присутствующие услышали примерно такой монолог: "Что за чушь вы нам тут несете? Вы что? Думать нормально не можете? Какие такие "дозор" и "резерв"? Вы бы ещё кордебаталию изобразили! ...Вы что, собрались воевать по петровскому корабельному уставу? Так вот, как главком ВМФ СССР извещаю вас, что он давно уже сдан в музей! У противника - 2 крейсера, у вас - 4. Что надо сделать? ...А надо не изображать морской балет, а разделить свои на пары, навалиться всем разом, взять врага в два огня, и разнести к чертовой матери. А то устроили нам тут, понимаешь, "Лебединое озеро"!.."" Взято отсюда: http://u-96.livejournal.com/2018114.html |
|
|
|
 1.3.2010, 3:47 1.3.2010, 3:47
Сообщение
#59
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Жуковская В. А. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине, 1914—1916 гг. (Отрывки)
Уникальной биографии Григория Ефимовича Распутина (1872—1916) посвящено немало мемуарных страниц. Свою лепту внесла и Вера Александровна Жуковская (урожд. Микулина) (1885—1956), в пору описываемых событий пробовавшая свои силы на литературном поприще. Уже будучи автором сборника рассказов «Марена» (Киев, 1914), молодая писательница, заручившись рекомендациями своего дяди, знаменитого ученого Н. Е. Жуковского, принимавшего участие в ее судьбе, представилась историку-расколоведу А. С. Пругавину. Свой интерес к нетрадиционным формам религиозного сознания Жуковская объяснила замыслом нового романа. Найдя в Пругавине лицо заинтересованное, она, благожелательно принятая в доме Распутина, стала для Историка источником информации о жизни «старца». Интерес Пругавина к этой личности, сыгравшей не последнюю роль в трагическом финале династии Романовых, был непреходящим. В 1915 г. он опубликовал в журнале «Русская Иллюстрация» документальную повесть «Около старца», где Жуковская описана под именем Ксении Владимировны Гончаровой. Отдельное издание было осуществлено в 1916 г. под названием «Леонтий Егорович и его поклонницы». Судьба этой книги печальна — почти на весь ее тираж был наложен арест. Второе издание вышло под заголовком «Старец» Григорий Распутин и его поклонницы» уже в 1917 г. Сюжет повествования был прост: знакомство автора с госпожой Гончаровой и подробное воспроизведение всего виденного и слышанного ею. «...Я более всего заинтересована, — говорила Гончарова, объясняя причины своего обращения к столь неординарной стороне жизни, — тем религиозным брожением... или, может быть, точнее будет сказать, тем поветрием, которое наблюдается теперь в разных слоях нашего общества и которое я затрудняюсь охарактеризовать одним каким-нибудь термином. Словом, я имею в виду то полное мистицизма и суеверия брожение, которое выдвинуло у нас разных «прозорливцев», выступающих в роли религиозных подвижников, выдвинуло разных «пророков», юродивых, блаженных». Автор повести дает героине следующее напутствие: «Вам предстоит нелегкий труд разобраться в этом диком конгломерате мистицизма, эротомании и политики, распутать этот клубок религиозных порывов и половых, сексуальных эмоций, переплетающихся с реакционными вожделениями и заданиями». Главы документального повествования Пругавина в значительной степени соотносимы с первыми тремя главами воспоминаний Жуковской, написанных, вероятно, десятилетие спустя, на основе дневников. Перу Жуковской принадлежат еще две книги: повесть «Сестра Варенька» (М., 1916) и сборник рассказов «Вишневая ветка» (М., 1918). Перипетии личной жизни в 20-х гг., неудачи в публикации своих произведений решили ее литературную судьбу. После ранней смерти мужа в 1924 г. Жуковская порывает с городской суетой и перебирается на жительство в сельцо Орехово Владимирской губернии, в места, издавна связанные с родом Жуковских. Отойдя от активной литературной деятельности, она почти всецело посвятила себя заботам об увековечении памяти Н. Е. Жуковского. Влад<имирский> округ Село Ставрово Деревня Орехово1 Предисловие Настоящие записки составлены мною по дневникам, которые я раньше вела ежедневно. Во время моих встреч с Распутиным я, вернувшись домой, записывала все слышанное и виденное, а т. к. память у меня вполне удовлетворительная, то некоторые записи представляли собою почти стенографическую точность. Во время моего знакомства с Р. я была еще очень молода и поэтому, конечно, относилась ко всему в жизни довольно поверхностно. Р. интересовал меня, главным образом, со стороны своего воздействия на людей, ничем не заинтересованных в его влиянии, и этой-то стороне уделена наибольшая часть моих записок. О ней же, должна сказать, почти не упомянуто во всей посвященной ему до сей поры литературе. Одна книжонка «Из недавнего прошлого»2, принадлежащая перу посещавшей Р. дамы, хотя и пытается осветить личность Р., но в ней слишком явно выражено желание отмежеваться от впечатления, производимого Р., и в некоторых случаях она явно не соответствует истине. Так, в одном месте дама пишет о гнилых зубах и зловонном дыхании Р., но как3 раз зубы были у него безукоризненные и все до одного целы, а дыхание совершенно свежее. Вообще надо иметь мужество признать, что Р. была натура во всяком случае исключительная и обладал он огромной силой. Это даже признает М. Н. Покровский4, а его-то уже никак нельзя обвинить в пристрастии к Р. Я очень сожалею, что я не политик и не историк — тогда бы я, конечно, извлекла гораздо больше из трехлетнего знакомства с Р., но и то, что я там слышала и видела, не занимаясь исследованиями и расспросами, настолько не похоже на все то, что мы имеем в обыденной жизни, что всякий, кто прочтет эти записки, так или иначе почувствует весь кошмар последних дней русской монархии и жизни ее «высшего света». В. Жуковская Глава I 1914 г. Мое первое свидание с Распутиным О Р. я услышала в первый раз в К<иеве>. Я тогда только что кончила гимназию и, заинтересовавшись благодаря случайному знакомству одной из отраслей сектантства, посещала тайком собрания Божиих людей, как они себя называли (много позже я узнала, что их же зовут хлыстами в сектантской литературе). И вот там, на окраине города, однажды, во время обычного вечернего чая с изюмом, любимого напитка божиих людей, Кузьма Иваныч, так звали хозяина, вдруг повел речь о старце Григории Распутине. Из этой речи, полной неясных образов и довольно сумбурной, какими вообще всегда бывают речи пророков людей божиих, я поняла, что этот старец куда-то обманом втерся, кого-то надул и что очень Россия от него пострадает, потому что он продает божий дар, что ему было много дано и все взыщется. В конце своей обличительной речи Кузьма Иваныч заметил, что вначале кажется, словно на кривде дальше уедешь, чем на правде, но что потом заплатишь за все сторицею; при этом он как пример привел нашу православную церковь, где все построено на лжи, а, между прочим, она стоит уже вторую тысячу лет. «Но погодите, братья и сестры! — вдохновенно воскликнул он, — расплата ждет, и будет она побита тем же оружием, которым защищалась, и во многом здесь поможет Григорий». Я спросила его, кто такой этот старец. Прищурив свои яркие глаза (у всех хлыстов глаза совершенно особые: они горят каким-то жидким переливчатым светом, и иногда блеск становится совершенно нестерпимым), он сказал усмехаясь: «Какой он старец, ему и пятидесяти лет нет. Это его епископ Феофан5 расславил: старец да старец, а «старец» такими делами занимается, что только кучеренку какому-нибудь под стать; спохватился Феофан, да поздно: пошел разоблачать, а Гриша к тому времени укрепился где надо и самого Феофана ссунул. Теперь до него рукой не достанешь, у царей свой брат стал. Слушок был в свое время, что он Алешу6 излечил, не совсем, а все же подходяще, и что царица святым его считает, а только враки, ведь темный он». — «Что значит «темный»?» — спросила я, затая дыхание, но ответ получила нескоро. Долго молчал Кузьма Иваныч, а потом неясно и запутанно стал говорить. Мало можно было понять из его слов, но выходило так, что, выбирая пророка, божий люди налагают на него искус: 33-дневный пост, который он проводит в затворе, получая лишь через известные промежутки хлеб и воду. После этих дней открывают тайник, в самую полночь, на большом соборе, т. е. на собрании всех братьев и сестер, и он выходит или светлым или темным, иными словами, преодолел он искушение или нет, одолел его враг, или он покорил его себе, и, сообразно с этим, бывает или торжество духа среди собравшихся или общее падение и — жестокий бич хлыстовства — общий свальный грех. «А почему вы думаете, что Распутин темный?» — спросила я, все еще не вполне понимая сущность дела. Кузьма Иваныч опять усмехнулся как-то вовсе не весело и сказал нехотя: «Он с нашими братьями был, а только мы отреклись от него: в плоть он дух зарыл». Потом промолчал и добавил как бы про себя: «Положим, горевать очень не приходится, не все ли одно. Там наверху и так плутни много, теперь одним обманщиком больше стало, только и всего. А держит он их крепко, сознаться надо». — «А чем?» — спросила я. «Поезжай да посмотри сама. Приглядись, авось что ни то и поймешь», — загадочно сказал Кузьма Иваныч и свел разговор на другое. Сильно заинтересованная этими таинственными намеками и рассказом Кузьмы Ивановича, воротилась я домой и решила при первой же возможности увидать Р. и понять, в чем тут дело. Случай скоро представился, я поехала в Петроград. Здесь я начала с того, что пошла к известному исследователю сектантства А. С. Пругавину, надеясь получить от него нужные мне сведения о Р. Я не ошиблась: Пругавин знал все, что вообще можно было внешне знать о Р., — ближайшим другом которого являлась Анна Александровна Вырубова7, интимнейшая подруга царицы, — одной записки которого, написанной крупными, корявыми буквами неверной, будто детской или пьяной, рукой к любому из министров, было достаточно, чтобы просителя немедленно удовлетворяли согласно его желанию. О близости к нему царицы и о его диких ночных оргиях под шумок говорил весь город, но громко никто не смел сказать слова из опасения, что слово это потом жестоко ему отплатится. А он сам, окопавшись где-то в самом сердце одурелой столицы, делал свое тайное темное дело. Какое? Вот это-то я и хотела понять. Это я сказала Пругавину. Он с большим огорчением посмотрел на меня и стал просить отказаться от моего намерения познакомиться с Р., т. к. последствия этого знакомства могут стать для меня гибельными. Но я повторила, что решила это твердо, и даже попросила его узнать мне адрес и телефон Р. «Пусть будет по-вашему, — со вздохом согласился Пругавин, — я сделал все, что мог, чтобы предостеречь вас, теперь я умываю руки». На другой день он сообщил мне по телефону адрес и телеф<он> Р., он жил тогда на Английском проспекте № 3, а телефон был 646 46. Я, конечно, не стала мешкать и тут же позвонила по апокрифическому телефону. Я случайно попала в редкую минуту, когда телефон Р. был свободен — как я увидала впоследствии, дозвониться к Р. было так же трудно, как выиграть в лотерею. Минутку постояв с, надо сознаться, сильно забившимся сердцем у телефона, я услыхала сиповатый говорок: «Ну кто там? Ну слушаю». Спрашиваю чуть дрогнувшим голосом: «Отец Григорий?» — «Я самый и есть, ну кто говорит? али незнакома?» — «Говорит молодая дама. Я очень много о вас слышала. Я нездешняя, и мне очень хочется вас увидать: можно?» — «А откеле ты звонишь-то?» — с готовностью отозвался Р. Я сказала. «Знашь што? — заторопился он. — Приезжай ко мне сичас, хошь? — голос его выражал нетерпение. — А ты кака? красива?» — «Посмотрите!» — засмеялась я. «Ну скорее, скорее, приезжай, душка, ну ждать буду. Через полчаса приедешь? не можешь? ну через час, живее, душка!» Менее чем через час я входила в подъезд огромного серого дома на Английском. Какое-то жуткое чувство охватило меня в этом широком светлом вестибюле. Внизу стояли рядом чучела волка и медведя; подъеденные молью, потрепанные шкуры вольных лесных хищников казались такими жалкими на фоне декадентского окна, на котором засыхал куст розового вереска, наполовину оголенные ветки его сиротливо выглядывали из-под безобразных зеленых бантов. Лифт остановился на самом верху. Отворив дверцу, швейцар указал мне на одну из высоких желтых дверей: Вам к Распутину! — и лифт сейчас же начал спускаться вниз, а я вспомнила, что он не спросил меня внизу, к кому я пришла. На звонок мне отворила невысокая полная женщина в белом платочке. Ее широко расставленные серые глаза глянули неприветливо: «Вам назначено?» — «Да!» — «Ну входите. Нет, здесь не раздевайтесь, — прибавила она, видя, что я направилась к вешалке, — снимете там, если хотите». После я узнала, что привилегия раздеваться в передней давалась только тем посетителям, которые считались своими и проходили не в «ожидальню», так называлась приемная для просителей, а во внутренние комнаты. «Гр. Еф. еще не вернулся от обедни», — затворяя за мной дверь в ожидальню, проворчала женщина. Большая комната была почти пуста, если не считать нескольких стульев, расставленных около стен далеко друг от друга, обиты они были грубым кретоном в новом стиле. Огромный неуклюжий буфет около нелепо раскрашенной печи с какими-то зелеными хвостами у карниза. В комнате трое посетителей: д<ействительный> с<татский> с<оветник> в вицмундире со звездой, плешивый, в золотом пенсне, неопределенный субъект в очень плохом костюме с всклокоченной бородой и разными глазами. А у самой двери, присев на кончике стула, бледная девушка в старой, обшитой барашком кофточке и кругленькой шапке. Дверь из передней отворилась, и недовольный женский голос крикнул: «Мара!»8 Из внутренних комнат пришла на зов, сутулясь и раскачивая бедра, высокая девочка в гимназическом платье. Подойдя к двери, она повернулась и несколько секунд пристально всматривалась в меня, и я смотрела на это белое широкое лицо с тупым животным подбородком и нависшим низким лбом над серыми угрюмыми глазами с бегающими в них мгновенными искрами. Волосы ее, тусклые, безжизненные, были завиты крупными локонами, и она нетерпеливо взмахивала головой, отгоняя от глаз низко подстриженную челку. Каким-то хищным звериным движением она провела острым кончиком языка по широким ярко-красным губам полуоткрытого, точно вывернутого рта, судорожно зевнула и скрылась в передней. Опять все затихло, яркое зимнее солнце ослепительно блестело на бездарной позолоте рыночной мебели и назойливо синем карнизе. Дверь из передней приоткрылась, и шмыгая туфлями, поспешно, как-то боком вскочил Распутин. Раньше я не видала даже его портрета, но сразу узнала, что это он. Коренастый, с необычайно широкими плечами, он был одет в лиловую шелковую рубашку с малиновым поясом, английские полосатые брюки и клетчатые туфли с отворотами. Лицо его показалось мне давно знакомым: темная морщинистая кожа обветренного, опаленного солнцем лица его складывалась теми длинными узкими полосами, какие мы видим на всех пожилых крестьянских лицах. Волосы его, небрежно разделяющиеся на пробор посередине, и довольно длинная, аккуратно расчесанная борода были почти одного темно-русого цвета. Глаз его я не разглядела, хотя, войдя, он тотчас же взглянул на меня и улыбнулся, но подошел к субъекту в плохо сшитом костюме. «Ну што надо-то, ну говори, — спросил он негромким своим говорком, склоняя голову несколько набок, как это делают священники во время исповеди. Проситель стал излагать какое-то запутанное дело, из его слов я поняла, что это был сельский учитель, т. к. он несколько раз упомянул, что ему все сделала бы записочка к товарищу министра Нар<одного> просв<ещения>. Нахмурясь, Р. сказал нехотя: «Ох, не люблю я просвещении этих. Ну постой, ну ладно, ну жди, напишу». Затем он подошел к д<ействительному> с<татскому> с<оветнику>, но тот попросил разговора наедине. Р. посмотрел было в сторону вставшей, как все сделали при его входе, девушки, робко стоявшей у притолоки, но потом повернулся и направился ко мне. Подойдя совсем вплотную, он взял мою руку и наклонился ко мне. Я увидала широкий, попорченный оспой нос, скрывающиеся под усами узкие, бледные губы, а потом мне в глаза заглянули его небольшие, светлые, глубоко скрытые в морщинах. На правом был небольшой желтый узелок. Сначала и они показались мне совсем обычными, но уже в следующую минуту мне стало неловко и я почувствовала ясно, что там, за этой внешней оболочкой, сидит кто-то лукавый, хитрый, скользкий, тайный, знающий это свое страшное. Иногда во время оживленного разговора глаза Р. загорались нетерпимым блеском и из них струилась какая-то неприятная дикая власть. Взгляд был пристальный и резкий, мигали его глаза очень редко, и этот неподвижный магнетический взгляд смущал самого неробкого человека. «Это ты, душка, утрием звонила?» — своим быстрым придыхающим говорком спросил Р. Я кивнула. «О чем хотела поговорить?» — продолжал он, сжимая мою руку. «О жизни», — ответила я неопределенно, захваченная врасплох, т. к. сама не знала, о чем я стану говорить с Р. Повернувшись к двери, Р. позвал: «Дуня!»9 На зов вошла смиренница в зеленой кофте и белом платочке. «Проведи в мою особую», — вполголоса сказал Р., указав на меня. «Идемте!» — Григорий Распутин. Начало 1910-х гг. пригласила она довольно приветливо. Мы вышли в переднюю, она повернула налево, провела мимо закрытой двери, сквозь которую слышались сдержанные голоса, и ввела в длинную узкую комнату с одним окном. Оставшись одна, я огляделась: у стены около двери стояла кровать, застланная поверх высоко взбитых подушек пестрым шелковым лоскутчатым одеялом, рядом стоял умывальник, с вделанным в дощатый белый крашеный стол тазом, по краю стол был обит белым коленкором, на краю около таза лежал обмылок розового мыла, на гвозде висело чистое полотенце с расшитыми концами. Около умывальника перед окном письменный стол, на нем плохонькая, вся залитая чернилами чернильница, несколько ручек с грязными перьями, карандаш, две бумажные бумаги, масса записок разных почерков. На самой середине стола будильник и около него большие карманные золотые часы с госуд<арственным> гербом на крышке. У стола два кресла. Наискось от окна у противоположной стены женский туалет с зеркалом, совершенно пустой. В углу не было иконы, но на окне большая фотография алтаря Исаакиевского собора, и на ней связка разноцветных лент. И по аналогии я вспомнила хатку божиих людей на окраине К<иева>: там тоже в углу не было иконы, а нерукотворный Спас стоял на окне, и на нем тоже висели ленты... В столовой зазвонил телеф<он>, дверь в нее была неплотно прикрыта, и я услышала, как Дуня нехотя спрашивала: «Кто?» Но внезапно голос ее изменился, стал угодлив, и она поспешно сказала, что позовет сейчас. Шмыгающие ее шаги в стоптанных башмаках живо простучали мимо двери, и сейчас же из ожидальной с нею почти так же быстро зашмыгал Р. Я слышала, как она шепнула ему: «Анна Александровна», — значит, Вырубова. Отрывистые ответы Р. ясно доносились до меня: «Ну люди у меня. Немного. Ну здоров. Ничего. Приезжай к чаю. В 6 приедешь? А когда же? Ах, занят буду. Ну ладно! Жду». Кончив разговор, он поспешно прошел через столовую и вошел ко мне, затворив плотно дверь. Придвинув кресло, он сел напротив, поставив мои ноги себе меж колен и, наклонясь, спросил: «Что скажешь хорошего?» — «В жизни хорошего мало», — сказала я. Он засмеялся, и я увидала его белые хлебные зубы, крепкие, точно звериные. «Это ты-то говоришь! — и, погладив меня по лицу, он прибавил: Слышь, што я тебе скажу? знашь стих церковный: от юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, Спасе мой, знашь?10» Говоря «знашь?», он быстро щурил глаза и бегло взглядывал острым хищным взглядом, мгновенно гаснувшим. «Знаю», — ответила я, недоумевая и не понимая, к чему он это сказал. «Ты постой, постой, — торопливо остановил он меня. — Я тебе все как есть докажу. Понимашь? До тридцати годов грешить можно, а там надо к Богу оборотиться, а как научишься мысли к Богу отдавать, опять можно им грешить (он сделал непристойный жест), только грех-то тогда будет особый — но сам мя заступи и спаси, Спасе мой, понимашь? Все можно, ты не верь попам, они глупы, всей тайны не знают, я тебе всю правду докажу. Грех на то и дан, штоб раскаяться, а покаяние — душе радость, телу сила, понимашь? Знашь што, поговей на первой неделе, што придет?» — «Зачем?» — спросила я. Он всполошился и близко наклонился ко мне. «Тута спрашивать неча, — забормотал он, — хошь верь тому, што я говорю, тогда слушать должна, а я тебе все скажу, всю правду докажу, ходи только ко мне почаще. Ах ты моя дусенька, пчелка ты медова. Полюби меня. Перво дело в жизни любовь, понимашь? От свово, да любимого, все примешь, всяко слово стерпишь, а коли чужой — то стану я тебе што хошь говорить, в одно ухо впустишь, а друго выпустишь. Посиди маненько, а я письмо напишу, пратецю просят». Подойдя к столу, он взял перо и стал писать, скрипя и громко шепча каждое слово, перо вихлялось в его руке как привязанное. Буквы, крупные, кривые, он точно нарочно прилеплял к бумаге. Отрываясь от писания, подбегал и целовал меня. Я сказала наконец: «Ну долго же им придется ждать вашего письма». Р. махнул досадливо рукой: «Ох, дусенька, больно уж не люблю писаний этих, то ли дело слово живо, а то гляди, што — чиста сажа, вот только и написал», — он протянул мне записку. Там стояло нелепыми каракулями выведенное: «Милой дорогой ни аткажиистелаи празьбу можише иму дать да Григорий». — «А что же вы не пишете кому?» — спросила я. Р. как-то растерянно улыбнулся: «А нешто я всех упомню, чай сами знают, какому министру несть, а для меня все одно: милай, дорогой, — я всем так пишу. Сиди тута, сичас отдам», — и он убежал. Вернулся Р. скоро и опять уселся против меня, сжав мои колени. Глаза его потемнели, и в них загорелся яркий блеск, наклонившись ко мне, он шептал поспешно: «Теперь не пушу тебя, раз пришла, должна теперь приходить. А то я с тобой ничего не поделаю, понимашь? Запиши-ка мне телефон свой», — заключил он, подавая мне лоскут бумаги и карандаш. Пока я писала, он, наклонясь, дышал в ухо, и едва я дописала последнюю цифру, как он спросил быстро: «Ну што же ты хотела о жизни со мною поговорить?» — «Скажите, знаете вы, в чем грех и где правда?» — спросила я. Р. посмотрел на меня с любопытством: «А ты знаешь?» — «Откуда же мне знать?» — вопросом же ответила я. Р. усмехнулся какой-то непонятной, неизвестно к чему относившейся улыбкой. «Ты, верно, книг больно много читаешь, а толк-то не всегда в книгах этих есть, другие только мутят и с ума сводят. Есть у меня одна така на твой образец, может, знаешь, в<еликую> кн<ягиню> Милицу Николаевну11. Всю-то книжну мудрость она прошла, а того, што искала, не нашла. Много мы с ней говорили, Умница она, а только покою ей не хватат. Перво в жизни любовь, а потом покой. А коли так ту безудержу жить, не получишь ты покоя. Вот она тоже о грехе спрашиват. А грех понимать надо. Вот попы, они ни... в грехе не понимают. А грех само в жизни главное». — «Почему главное?» — переспросила я недоумевая. Р. прищурился: «Хошь знать, так грех только тому, кто его ищет, а если скрозь него итти и мысли у Бога держать, нет тебе ни в чем греха, понимашь? А без греха жизни нет, потому покаяния нет, а покаяния нет — радости нет. Хошь я тебе грех покажу? Поговей вот на первой неделе, что придет, и приходи ко мне после причастия, когда рай-то у тебя в душе будет. Вот я грех-то тебе и покажу. На ногах не устоишь!» Раскрасневшееся лицо Р. с узкими, то выглядывающими, то прячущимися, глазами надвинулось на меня, подмигивая и подплясывая, как колдун лесной сказки, он шептал сладострастно расширившимся ртом: «Хошь покажу?» Кто-то страшный, беспощадный глядел на меня из глубины этих почти совсем скрывшихся зрачков. А потом вдруг глаза раскрылись, морщины расправились, и, взглянув на меня ласковым взглядом странников, он тихо спросил: «Ты што так на меня глядишь, пчелка?» — и, наклонившись, поцеловал холодным монашеским ликованьем. В полном недоумении глядела я на него: ведь не во сне же я видела это темное, горящее лицо, с крадущимся страшным взглядом и слышала злорадный шепот: «Хошь покажу?» А сейчас передо мной сидит простой мудрый мужичок с залегшими крупными складками на красновато загорелой коже, и его светлые выгоревшие глаза пытливо смотрели на меня, только где-то в далекой глубине этих небольших глаз мелькал тот беспутный и заманивал и ждал... Я встала: «Мне пора идти». Р. стал удерживать. «Ну што с тобою делать, — сказал он наконец, тоже вставая и крепко обнимая. — Только, смотри, скорее приходи. Придешь, што ли? — настаивал он, провожая меня в переднюю. — А как скушно станет, так телефоном звони, я сичась и подойду. Я всегда дома, разве што только Аннушка увезет в Царско. Когда придешь, дусенька. Хошь завтра вечером приходи в половине десятого, придешь?» — «Приду». Я шла и думала обо всем, что слышала от Р. Впечатление мое получилось крайне сумбурное, и казалось странным, почему здесь было так просто и естественно все то, что в другом месте показалось бы возмутительным и непристойным. Но, уходя, я знала твердо одно, что приду опять обязательно. Глава III «Радение» с Лохтиной Когда я на другой день в 12 ч. пришла к Р., Дуня сказала мне, очень неприветливо, что Гр. Еф. у обедни, и опять, не дав мне раздеться в прихожей, где на вешалке уже висело множество нарядных шубок, провела в ожидальную. Через несколько минут из двери в переднюю поспешно вскочил Р., он был в нарядной голубой расшитой шелками рубашке, плисовых штанах и лакированных сапогах. «Што же это она тебя, тупорыла, к гостям-то не свела?» — торопливо забормотал он, целуя меня и увлекая за собою. Но у двери в столовую он вдруг задержался и подозрительно посмотрел на меня. «Али же лучше не надо? — колеблясь, сказал он. — Може наглядишься на нее да сбежишь от меня?» — «Если надумаю сбежать, без всякой причины сбегу, — сказала я. — А вот, может быть, вашим дамам будет неприятно, что вы приведете к ним незнакомую?» Р. нетерпеливо мотнул головой: «А мне... с ними, раз мне знакома, и им должна быть знакома. Ну идем, дусенька!» Григорий Распутин в кругу почитателей. Середина 1910-х гг. В столовой ослепительно сверкал хрусталь на столе, и как сквозь радугу ярких зимних лучей солнца я увидала лица сидевших за столом. Подведя меня к столу, Р. сказал: «Примайте гостью, она мне больно полюбилась», — и, усадив меня в пустое кресло на краю стола, сел рядом на хозяйском месте. Поклонившись и несколько смущенная необычайной обстановкой, я украдкой осматривала собравшихся. Всех дам было около 10 и на самом отдаленном конце стола молодой человек в жакете, нахмуренный и, видимо, чем-то озабоченный. Рядом с ним, откинувшись на спинку кресла, сидела очень молоденькая беременная дама в распускной кофточке. Ее большие голубые глаза нежно смотрели на Р. Это были муж и жена Пистелькорс13, как я узнала потом, встречаясь с ними, но в следующие годы знакомства я Пистелькорса самого никогда больше не видала у Р., а только Сану. Рядом с Саной сидела Люб. Вал. Головина14, ее бледное увядшее лицо очень мне понравилось, — она вела себя как хозяйка: всех угощала и поддерживала общий разговор. Около нее сидела немолодая, но очень красивая генеральша Ливен, за ней полная, обрюзгшая Шаповальникова — владелица одной из частных гимназий, давнишний друг Р., так же часто посещавший его, как Головины15. «Аннушку знашь?» — тихонько шепнул мне Р., подмигнув на соседку Шаповальниковой, — «Аннушка»! — так Р. звал Вырубову, — я посмотрела на нее с любопытством: высокая полная блондинка, одетая как-то слишком просто и даже безвкусно, лицо некрасивое с ярко-малиновым чувственным ртом и неестественно блестевшими большими голубыми глазами. Лицо ее постоянно менялось — оно было какое-то ускользающее, двойственное, обманное, тайное сладострастие и какое-то ненасытное беспокойство сменялось в нем с почти аскетической суровостью. Такого лица, как ее, больше в жизни я не видала и должна сказать, что оно производило неизгладимое впечатление. Сидевшая рядом с нею Муня Головина больше других поглядывала на меня своими кроткими, мигающими, бледно-голубыми глазами. Я почему-то сразу решила, что это она, и, когда Р. позвал «Мунька», была довольна, что не ошиблась. В светло-сером шелковом платье, белой шапочке с фиалками казалась она такой маленькой и трогательной. В каждом взгляде и в каждом лове проглядывала беспредельная преданность и готовность полного подчинения. Поглядев на соседку Муни, я несколько секунд не могла отвести взгляда от этого лица — смуглое, почти желтоватое, с большими продолговатыми черными глазами, усталыми и гордыми, — оно казалось неживым, как лицо старинного портрета, но иногда оно вдруг все вспыхивало, и в глазах мелькала тоска неразрешимого вопроса. Она была как-то неестественно бледна, и тем ярче выделялись на этом лице тонкие губы красного рта. Одетая в лиловый шелк и маленькую шапочку из черно-синих крылышек, она сидела, спокойная и безучастная, глубоко засунув руки в горностаевую муфту. Я не спросила, кто она, и больше у Р. я ее не встречала, но узнала ее по портретам и думаю, что это была в<еликая> к<нягиня> Милица Никол., та самая, о которой Р. в первое свидание со мной говорил: «Есть у меня тут одна княгиня в. Милица, може знашь? она вот тоже всю книжну премудрость произошла, а спокою не нашла». Да, человеку с таким лицом не грезилось даже мечтать о покое. Остальные дамы были незначительны и все как-то на одно лицо, и на них я взглянула мельком. На углу стола кипел огромный, ведерный, ярко начищенный самовар, и стол весь был буквально завален разной снедью, но сервировка была очень странная: рядом с роскошными тортами и великолепными хрустальными вазами с фруктом лежала прямо на скатерти грудка мятных пряников и связки грубых больших баранок, варенье стояло в замазанных банках, рядом с блюдом роскошной заливной осетрины — ломти черного хлеба и огурцы на серой пупырчатой тарелке. Перед Р. на глубокой тарелке лежало десятка два вареных яиц и стояла бутылка кагору, около нее три чайных стакана. «Ну, пейте чай, пейте», — сказал Р., придвигая тарелку с яйцами. Немедленно все руки потянулись к нему, глаза блеснули: «Отец, яичко!» Особенно болезненно выразилось нетерпение в глазах беременной Саны Пист. Я взглянула на нее с недоумением: очень уже все это было дико! Наклонившись, Р. набрал целую горсть яиц и стал оделять каждую, кладя по яйцу в протянутую ладонь. Раздав всем, он повернулся ко мне: «Хошь яичко?» Но я отказалась, и сейчас же глаза всех с удивлением посмотрели на меня. Вырубова встала и, подойдя к Р., подала ему на ломте хлеба два соленых огурца. Перекрестясь, Р. принялся за еду, откусывая попеременно то хлеба, то огурца. Ел он всегда руками, даже рыбу, и, только слегка обтерев свои сальные пальцы, гладил между едой соседок и при этом говорил «поучения». «Вот, — сказал Р., прожевывая огурец и кладя жирную ладонь на живот своей соседки справа, молодой барышни в красной кофточке, — вчера пришла она ко мне, — он кивнул на меня. — О вере мы с ней говорили, и никак убедить я ее не мог. Она, вишь, в церкву не ходит, а я ее причащаться посылал, не идет така супротивна — я сам попов-то не очень хвалю, много в них есть неправды, ну а без церкви не проживешь: она до всего доспеват, знашь?» В разговор вступила старая Головина. «Хорошо, что вас привело к Гр. Еф., — сказала она, ласково на меня глядя, — вот походите с недельку к нему, и вам вся жизнь сразу станет яснее». — «Ну, ну, не торопись больно, — отозвался Р., — с ею не мене трех лет провозишься. А я рад, што она пришла, вот это так и знай, коли от кого на сердце сладость, значит, тот человек хорош, а от кого — скука делатся, ну, значит, подлюка, понимашь?» — и он приблизил ко мне лицо с прищуренными глазами. «Только вот правильно жить надоть, — заключил он. — Любить надоть, прощать, да в церкву ходить!» — «Уж научить церковь прощению, — сказала я. — Анафему вот когда провозглашают, это в особенности хорошо прощение». — «Меня тоже всегда анафема смущает, Гр. Еф., — сказала Люб. Валер. — К чему это она?» Р. медленно проглотил чай и нехотя отозвался: «Ну ее, анахтиему эту, мы другого раза оставим, ну ее!» В комнату вошла та самая высокая девочка в гимназическом платье, которую я видела в приемной в первый приход. Руки всех протянулись ей навстречу: «Мара, Марочка!» Очень было любопытно посмотреть, как все эти княгини и графини целовали дочь Распутина, одна даже, вероятно, обознавшись, поцеловала ее руки — потом ее усадили на диване около старой Головиной. «Вот солнышко-то как нынче светит радостно, — сказал Р., обращаясь ко мне, — это оно для тебя светит, потому ты на добро пришла. Знашь, так всегда бывает, кому вера-то есть, вот солнце тоже, когда глядит на дома-то. все люди особыми будто стали, а по делу-то своею верою глядишь, оно и выходит солнечно. Ходи в церкву», — неожиданно закончил он свое туманное «поучение», которому все внимали с благоговением. «Вот тоже Ольга16, — заговорил Р., прожевав баранку. — Была баба умна, в бога верила, в церкву ходила, и вдруг словно што ее, подлюку, ужалило, своротила в сторону и вместе с отступником Серьгой Трухановым17, знашь, такой монах был в Царицыне, бешеный, Иллиодор! — оба на церкву наплевали, он вовсе из Рассей сбежал, а она каку-то дуру ленточну из себя смастерила, да, вот, погодь, сичас сама увидишь. Чует мое сердце, што явится она и не даст мне стакана чая толком допить». И точно в ответ на его слова в передней раздался сильный шум. Я повернулась к полуоткрытой двери, а на пороге ее уже колыхалось что-то невероятно яркое, широкое, развевающееся, косматое, нелепое и высоким звенящим голосом выпевало по-кликушечьи: «Хри-и-и-сто-с Во-о-о-скре-е-с!!!» — «Ну вот тебе Ольга, радуйся!» — хмуро сказал Р. Мимо меня пронеслось это ни на что раньше мною виданное не похожее и рухнуло между моим и Р. креслами. Отчетливо запомнила я белую козью ротонду, веером разостлавшуюся по полу, а потом какой-то мех на затылке — густой, желтый, волчий. Поднявшись на полу, Лохтина протянула Р. шоколадный торт, выкрикнув немного более по-человечески: «Вот гляди при-и-нес-ла-свер-ху белень-ко-е! внутри черненькое!» Р., сидевший с момента ее появления отвернувшись и насупившись, повернулся к ней, взял торт и, сунув его на край стола, сказал скороговоркой: «Хорошо, отстань, сатана!» Стремительно вскочив, Лохтина обняла сзади его голову и стала дико целовать его, выкликая захлебывающимся срывающимся голосом исступленные ласки, уловить слова было почти невозможно, и только иногда проскальзывало кое-что, напоминавшее человеческую речь. «Дорогусенько, сосудик благостный, бородусенька, безценьице, мученьице, бриллиантики, алмазик мой, божестьице мое, боженочек мой, любосточек аленький, сокровище мое, радостичек мой, блаженнинький мой, святусик!!!» Отчаянно отбиваясь, Р. кричал, полузадушенный: «Отста-ань! сатана! отста-а-нь, бес, сво-о-лочь, дьявол!! тебе говорю, сука, стерьва! отста-ань!!» Наконец, оторвав ее руки от своей шеи, он отбросил ее со всего размаху в угол и, весь красный, взъерошенный, задыхаясь от злости, крикнул: «Всегда до греха доведешь, сила окаянная! паскуда!» Тяжело дыша, Лохтина добралась до кушетки, около которой упала, и. помахав руками, окутанными цветными вуалями, звонко выкрикнула: «А все-е же-ты мо-ой!! и я к те-бе прило-жи-и-лась!! И я-а к тебе при-и-ло-жи-ла-сь. Бо-ог ты мо-ой! Кто-о бы не сто-о-ял ме-е-жду на-а-ми, а я к тебе при-и-ло-жусь!! И я зна-а-ю Ты ме-е-ня лю-и-бишь!» — «Ненавижу я тебя, сволочь! — быстро и решительно возразил Р. — Вот перед всеми говорю: ненавижу я тебя, не только что люблю — бес в тебе. Убил бы я тебя, всю морду избил!» — «А я счаст-ли-и-ва! счаст-ли-и-ва-и все же ты меня-лю-и-бишь! — запела Лохтина, подпрыгивая на одном месте и трепеща цветными тряпками и лентами. — И я к те-е-бе опять при-и-ло-жусь!» Мгновенно подбежав к Р., она обхватила его голову и с теми же дикими сладострастными криками принялась целовать его, неистово крича и выкликая. «А ты дьявол!» — в бешенстве завопил Р. и ударил ее так, что она отлетела к стене, но сейчас же, вскочив на ноги, Лохтина опять закричала исступленно: «Ну, бей, бей! бей!!» Все выше, выше поднимался голос, и такое блаженство было в нем и в этих протянутых худых руках, что невольно становилось как-то жутко: а вдруг все это уже перестало быть действительностью, потому что в здравом уме и твердой памяти нельзя присутствовать на подобном бедламе, зная, что это не сумасшедший дом, но тогда что же это такое? Наклоняя голову, Лохтина старалась поцеловать то место на груди, куда ее ударил Р., и, видя, что это невозможно, подскакивала и рычала, с отчаянием целуя воздух громкими жадными поцелуями, била себя ладонями по груди и целовала эти ладони, извиваясь в сладострастном экстазе. Она напоминала какую-то страшную жрицу, беспощадную в своем гневе и обожании. Понемногу ее возбуждение стало стихать. Отойдя к кушетке, она легла на нее и закрылась вуалями. Я внимательно смотрела на нее: наряд ее был невероятен — вся она была обвешана плиссированными юбками всевозможных цветов, думаю, их было не меньше десяти, мне пришло в голову, как по-дурацки должен себя чувствовать человек, если только он вправду не сошел еще с ума, обвешиваясь всем этим костюмом, и я чуть не расхохоталась. Юбки эти от ее быстрых нервных движений кружились и развевались вокруг нее, как гигантские крылья, разлетались вуали (их было столько же, сколько юбок) по обеим сторонам головы, на которой была надета волчья собирская шапка Р. (как я потом узнала от Муни), с прикрепленными к ней пучками разноцветных лент. Поверх надетой на Лохт. красной русской рубашки Р. висели на ремнях мешочки, наполненные разным хламом и остатками еды Р.: половинками обкусанных огурцов, яблок, баранок, ломтей хлеба, костями рыб, кусками сахара, старыми пуговицами, обрывками лоскутов, записочками. На ремнях же висело несколько пар его старых рукавиц. На шее Лохтиной, словно цепи, свисали разноцветные ряды четок, гремевших при каждом ее движении. На руках ее были неуклюжие мужские перчатки, которые она потом скинула. Ноги были обуты в старые огромные сапоги, вероятно, те самые, в которых он «тридцать лет искал бога по земле». Лицо ее трудно было разглядеть под двойным венчиком вроде тех, которые кладут на покойников, и сквозь вуали виден был только скорбный изящный рот, обезображенный несколькими выбитыми зубами, наверно, самим же Р. «Бо-ог! бо-ог! си-ила! твоя!» — нарушая общее тягостное молчание, внезапно выкрикнула Лох. Р., опять было принявшийся за чай, резко повернулся к ней и погрозил ей кулаком: «Вот, как перед Истинным, доспеешь ты окаянная, продолблю я твою голову, кобыла бешена! Сгинула бы с глаз долой, опостылела, сука?!» — «За что вы ее так поносите?» — спросила я возмущенно. Все сидевшие быстро повернулись ко мне, а Р., мгновенно изменив свое свирепое лицо на ласковое, погладил меня по плечам. «А ты сама подумай, пчелка, как же мне ее не ругать, — сказал он примирительно, — какого мне все это терпеть, бесы тому и рады, што она церкву бросила, и Муньку за собою тянет?» — «А вы только что говорили, надо прощать!» — заметила я. «Слы-ы-шу умные речи! — запела Лохт. Откинув вуаль, она пристально вгляделась в меня темно-серыми, все еще прекрасными глазами. — Это кто же такая! видно, новенькая. Ну, сюда, сюда и руку целуй, руку!!» — «Замолчишь ли ты, сатана ленточный!» — крикнул Р. Дамы все по-прежнему молчали, только дышать они начали часто, нервно поводили плечами, лица покраснели, и глаза застилались. «Не замол-чу-у! — не унималась Лох. — Я все дни кри-чу-у! об одном, а вы глу-ухи, вы-сле-е-пы!!» — «Я не понимаю, зачем вы раздражаете Гр. Еф.? — сказала неожиданно Люб. Вал., обращаясь к Лохт. — Разве вы не видите, что ему это неприятно?» Вырубова встала, подошла к Лох., стала перед ней на колени и поцеловала ей руку, потом вернулась на свое место. «Догадалась наконец! — очень спокойно сказала Лох. и сейчас же опять закричала, выкликая; точно так же внезапно стихнув, она наклонила голову и, раздвинув вуали, принялась вглядываться в сидящих. — Что-то я не вижу своей послушницы? Ну живо, живо! на колени, и ручку, ручку!!» Муня встала и, став на колени перед Лох., поцеловала ее руку. «Погоди, подлюка! Найду я на тебя кнута!» — крикнул Р. «Бо-ог пра-авду любит», — завопила Лохт. «Не в тебе ли она, сила нечистая?» — огрызнулся Р. Муня вернулась к столу. «Смотри, дура, — погрозил ей Р., — станешь постылой!» Люб. Вал. спросила сдержанно, но вся покраснев: «Гр. Еф., это ужасно — как вы Марусю браните?» — «А что она меня в грех вводит, — отозвался Р., — руки у Ольги целует — сколько раз говорил ей: не смей Ольге ничего давать!» — «Что же мне голодной теперь оставаться? — покорно спросила Лох. — Сегодня опять не обедала и вчера ничего не ела, у меня денег нет. Последние сегодня шоферу отдала. Он меня шибко, хорошо вез! Я опоздать боялась. Я ему говорю: направо, налево туда, сюда, а он поворачивает, и вот я здесь, и ничего у меня нет! Сегодня прощенное воскресенье, прислуга будет прощение просить, на чай надо давать, а у меня нет! А я голодна, есть хочется», — как-то по-детски беспомощно протянула она последние слова. «Так тебе и надо, стерва!» — спокойно сказал Р. Дуня внесла огромную миску дымящейся ухи и поставила на столик у двери. Муня встала, налила тарелку и отнесла ее Лохт. «Мунька! — сердито прикрикнул Р., — тебе говорю, не смей служить Ольге, ну ее!» (он прибавил краткое, но выразительное словечко). Не слушая его, Муня поставила уху на круглый столик около кушетки. «Это зачем тут? — указала Лохт. на корзину гиацинтов на окне. — Здесь все мое раньше было, чашка моя тут стояла, все подъели, все выкинули, подлянки!» Муня молча взяла тяжелую корзину, сняла ее с окна и с трудом, напрягая свои худенькие плечи, поставила ее в угол на пол: Р. обернулся. «Ну чего мне еще ждать?! — воскликнул он. — Коли эта сука проклята Муньку у меня отбирает. Хушь бы кто ее, гадюку, из городу убрал, в ноги бы тому поклонился!» Люб. Вал. взволнованно сказала Муне: «Маруся. ну что ты делаешь, зачем сердить Гр. Еф.». — «Ну мама, мамочка, не надо, не говори так», — шепнула Муня. «Разве ты не можешь сделать все, что захочешь? — немедленно стала выкликать Лохт., приходя в исступление, — бери бу-ма-гу, пи-и-ши, пи-и-ши! пусть возь-му-т и я по-оле-чу за те-бя-в кан-далы в це-е-пи-в-тюрь-му-ты мо-ой!! ты меня лю-ю-би-ишь! Ну пи-ши!» — «А потом скажут, что я тебя выгнал и ты от меня с ума сошла — не хочу этого!» — сумрачно сказал Р. Шаповальникова встала и, пройдя мимо Лохтиной, стала разливать уху по тарелкам. Лох. яростно вскинулась на своей кушетке: «Сам бей! бей! плюй! на меня, но запрети им портить мне мою дорожку*. А теперь я должна к тебе при-ло-житься!» Она вскочила. «Посмей только, сука!» — становясь в оборонительную позу, пригрозил Р. Она стала заходить слева. «Ой, Ольга, не доводи до греха!» — жимая кулаки, урчал Р. Но ловким, неожиданным движением, забежав справа, она обхватила его голову, со стоном приникнув к ней. Отцепив ее руки и совсем уже по-звериному рыча, Р. отшвырнул ее так, что она с размаху упала на кушетку, застонавшую под ней. Но, сейчас же выпрямясь, Лох. с блаженством стала целовать концы пальцев, посылая Р. воздушные поцелуи. «Зачем вы нарочно сердите Гр. Еф.?» — опять сказала Люб. Вал. Лохт. выпрямилась и ответила по-фр<анцузски>: «Почему вы не называете меня, обращаясь ко мне, милая Люб. Вал.?» Головина слегка смутилась и ответила на том же языке: «Очень извиняюсь, я совершенно не имела в виду обидеть Вас, милая Ольга Владим.!» — «Пожалуйста, не беспокойтесь», — кротко прервала ее Лох., но тут же опять закричала петухом и стала твердить свои бессмысленные ласки ходившему по комнате Р. Остановившись около меня, Р. сказал: «Ну спроси ее сама, почему она такую шутиху из себя строит? да еще говорит, што я ее на таку дурость благословил». — «А кто-о-же-кро-о-ме те-бя! — пронзительно крикнула Лохт. — Ты-бо-ог! мой! падите ниц!» — подпрыгивая и размахивая руками, дико кричала Лохт. «Вот, гляди на нее, — развел руками Р., — как же мне ее, бесовку, не проклинать. Ну да как другие меня тоже за Христа почитать начнут по ее-то примеру?» — «Не за Христа, а за бога! — закричала Лохт. — Ты бо-ог! мой Саваоф, бог живой!» — «А вы бы ее спросили, почему она вас за бога считает?» — сказала я. «Дусенька, — отчаянно махнул рукой Р., — да нешто я ей, дуре, не говорил? колько раз спрашивал — нешто бог с бабой спит? нешто у бога бабы родят, а она знай свое ладит — не хитри, все одно не скроешься, бог ты Саваоф!» — «Бог ты мой! живой! А все вы в содоме сидите!» — запела Лох. «Ох, што ни то да я над ней, гадой, сделаю!» — и Р. приподнялся на кресле, но тут же протянулись женские руки: «Отец! успокойся!» Зазвонил телеф<он>, Р. пошел говорить. Дуня собрала грязные тарелки и сказала Муне: «Мунька, снеси тарелки на кухню!» — «Что у вас за странная манера говорить, Дуня! — порывисто сказала старая Головина, — ведь можете же вы сказать: «Мария Евгеньевна, снесите тарелки». — «Не надо, мамочка, оставь», — тихо шепнула Муня. «Ну, ничего, ну здоров, ну чай пью; гости у меня», — доносилось от телеф<она>. Я, точно проснувшись, огляделась вокруг и опять подумала: где я и что же все это такое? Лохт. встала и направилась в спальню. Повернувшись от телеф<она>, Р. подмигнул Маре, чтобы она шла за ней, та быстрым кошачьим движением проползла за спинами сидевших на диване дам и крадучись двинулась за Лохт. Около двери спальни та внезапно остановилась и кинула ей: «Что подсматривать за мной?» — так властно, что на миг заставила забыть и свой шутовской наряд и всю странную обстановку. Даже Р. смутился и ответил очень коротко: «Не за тобой, а за своими рубашками». — «Очень мне нужны новые посконки, — презрительно отозвалась Лохт. — Твою! твою! с тебя сниму, захочу сниму, а там я все должна освидетельствовать!» Она кинулась в спальню, Мара проскользнула за ней. Несколькими прыжками Р. проскочил в спальную, и сейчас же оттуда раздался неистовый шум, что-то падало, разбивалось, доносились удары, и все покрывалось отчаянными воплями Лохтиной. Хлопнула где-то дверь, по передней раздался тяжелый топот, и в столовую вбежала Лохт., растерзанная, с разорванными вуалями. В ту же минуту из спальной появился Р., красный, потный, мимо него вьюном прошмыгнула Мара. Нырнув за спины дам, она, отдуваясь, уселась между Головиной и Шаповальниковой. Увидев ее, Лохтина закричала, грозя ей обеими руками: «Дрянь! дрянь! гадина! Если бы ты любила отца, ты знала бы, что ему нужна не эта казенная дрянь! а бесценные, единственные часы, уника! с рубинами! с изумрудами, с яхонтами! я их на Невском видела! И они будут у него! А эту гадость отдай! отдай!!» Мара быстро переложила из одной руки в другую большие золотые часы Р. с государственным гербом на крышке и спрятала их под юбку. Несколько минут по комнате носился дикий смерч крика, проклятий и ругани. Голоса Р. и Лохт. сливались, покрывались один другим, слова обгоняли, подхватывались на лету, перебрасывались обратно, кружились в буйном кабацком плясе, оглушая и парализуя всякую мысль. Дамы сидели с виду спокойно, только лица их то бледнели, то краснели, нестерпимым возбуждением горели влажные глаза... Лох. уступила; пятясь от наступавшего на нее Рас, она дошла до кушетки, повалилась на нее и затихла в полном изнеможении. Р. сел отдуваясь на свое место и вытирая потное лицо рукавом своей нежно-голубой шелковой рубашки — она сразу пожелтела. Люб. Вал. заговорила первая: «Как вам не совестно, Ольга Влад., — начала она слегка дрожащим голосом. — Когда вас нет, мы сидим спокойно и слушаем Гр. Еф., а как только вы являетесь, мы все начинаем дрожать — ссора, крик, за этими воплями мы и слов Гр. Еф. не слышим». — «А кто из вас делает что-нибудь ради него? — с негодованием воскликнула Лох. — Кто любит его, как я, и душу отдаст за него?!» Муня принесла блюдо печеной рыбы и первой подала Лох., та мгновенно затихла, взяла кусок и строго сказала Муне: «Знаешь, что виновата, Мунька, проси прощенье». Муня отнесла рыбу на стол, вернулась к Лох., стала на колени и поцеловала ее руку, поклонившись ей в ноги. «Ах, Маруся, ну зачем ты это, Маруся», — растерянно пролепетала Люб. Вал. «Ну перестань, мамочка, не надо!» — тихо отозвалась Муня. Р. не сказал ничего, и все принялись за рыбу. Лохт. опять стала всматриваться в сидевших, точно высматривая кого-то, и вдруг с торжеством воскликнула: «Вот и причина ясна: вижу беленькая сидит ни гу-гу! А она сегодня под супружеской охраной!» Молодой человек сильно покраснел и заметил резко: «Попрошу вас оставить мою жену в покое». — «Замо-о-лчи несчаст-ны-ый!» — грозно крикнула Лох. Р. обернулся к ней: «Молчи уж, молчи, сука!» — «Они не смеют говорить перед тобой!» — вопила Лох. «Да вы сами-то успокойтесь, Ольга Влад., и дайте нам послушать Гр. Еф.», — сказала Люб. Вал. В это время по непонятной причине упал столик у стены, со стоящей на нем миской с ухой, все вздрогнули, а Сана Пистел. вся затряслась. Мара побежала на кухню. Началось какое-то странное замешательство, пролившаяся уха желтым ручьем быстро разливалась по паркету. Лох. встала, на кончиках пальцев с трудом шагая в неуклюжих сапогах, пробралась к Р. и кинулась его целовать с воплями: «А я к тебе приложилась!!» Потом отскочила раньше, чем он успел ее ударить, и, встав за креслом, на таком расстоянии, что до нее не доставал Р. кулак, стала просить его дать ей стакан с вином. С невыразимой силой в своем красивом звонком голосе, она просила упорно: «Отец, дай, дай! вина — винцо красненькое, причащуся я, слюнкой твоей причащуся, дай! дай! дай!» — «Не получишь ни...! — кратко и выразительно сказал Р. — Уезжала бы к свому сукину сыну Иллиодору — вот разбери ты их, — продолжал он, обращаясь ко мне, — он, отступенек, от церкви отрекся и считает меня мошенником, плутом и блудником, а она под его отречением подписалася, а меня за бога Саваофа почитает!» — «А разве Иллиодорушка тебя не любит! — закричала Лох., — любит! любит!» К Р. подошла Дуня и что-то шепнула ему, кивнув на спальню. Р. торопливо встал и прошел в переднюю. Как только он закрыл за собой дверь, Лох. кинулась к столу, схватила недопитый Р. стакан кагора, затем, взойдя на кушетку, встала на нее, подняв руки к переднему углу. Несколько секунд стояла она так. В комнате была какая-то неприятная, напряженная тишина. Приблизив к губам стакан, Лохт. медленно выпила вино и, упав навзничь на кушетку, лежала неподвижно. Громко вздохнула Люб. Вал. и, обращаясь к Муне, сказала едва не плача: «И зачем только ты меня сюда привезла сегодня, Маруся, я опять буду совсем больна! Если бы вы только знали, — вдруг обратилась она ко мне, — что здесь было вчера утром, меня едва лавровишневыми каплями отпоили, а сегодня я опять вся дрожу. Не могу я оставаться равнодушной, не могу!» — «Ну успокойся, мамочка, ну не надо!» — с тоской сказала Муня. «Зачем Ольга Влад. все это делает?» — спросила я Муню. Ее мигающие глаза смотрели куда-то далеко, и она ответила спокойно: «Ее надо понимать!» — «Ну нет! — возмущенно воскликнула Люб. Вал. — Я решительно отказываюсь это делать, — и, снова обращаясь ко мне, добавила спокойнее. — Уже четыре года и один месяц я знаю Гр. Еф. и люблю его безгранично, я и Ольгу Влад. люблю, но только не могу понять и одобрить ни ее поведения по отношению к нему, ни его к ней!» «Если я за-мол-чу-у-то ка-а-мни возопиют!» — внезапно выкликнула Лохт. Встав с кушетки, она подкралась к двери спальной, откуда, сквозь щель, слышался хриплый говорок Р. и женский смешок. Наклонясь, Лох. вся приникла к двери, та заскрипела. «Нельзя, нельзя!» — сердито сказал Р., припирая ее изнутри. Лох. дико захохотала и, колотя кулаками по двери, закричала: «Набирай их себе! набирай! Хоть с целым миром спи! А все же ты мой и я от тебя не уйду и не дам тебя никому!!» За столом произошло движение — Сана Пист. встала и медленно пошла к Лохт., протянув вперед руки. Ее большие глаза горели в каком-то восторженном экстазе, а губы пересохшего рта шептали что-то. Но она не дошла до нее: встав за нею из-за стола, ее муж догнал ее на середине комнаты и, взяв под руку, увел ее, сопротивлявшуюся и упиравшуюся, в переднюю. Разговор за столом смолк опять, и вокруг комнаты потянулось снова что-то молчаливое, клейкое. Дальше оставаться в этой атмосфере посторонним зрителем было невозможно: Сана Пист. только первая выразила то, что думали все — надо было или уходить или тоже начать биться и кричать, ломая все, что попадется под руку. Вырубова встала первая и прошла в спальню, в<еликая> к<нягиня>, поднявшись вслед за ней, сделала знак сидевшей с ней рядом молоденькой девушке и направилась к передней, но навстречу ей кинулась Мара Рас, обняв ее за шею. Наклонясь к ней, в<еликая> к<нягиня> стала целовать Мару бесконечными поцелуями, потом, обняв за талию, увела с собой в переднюю. Из спальни выскочил Р. Я встала, общим поклоном простилась с оставшимися и подошла к нему: «До свидания, Гр. Еф., я ухожу». — «Ну а когда же придешь, душка?» — торопливо спросил он, заглядывая в глаза. «Не знаю, — сказала я. — Позвоните мне как-нибудь». Меня прервал дикий хохот Лохтиной, корчась на кушетке, она выкликала: «Во-от до чего я до-о-жила! О-он-Бог Сава-оф будет зво-о-нить девчонке! по телефону!!» Выйдя с Р. в переднюю, я быстро нашла шубку, принесенную кем-то из ожидальной, где я ее сняла. Р. спросил тревожно, помогая одеваться: «Ну што, одного дурного насмотрелась у меня, али чего хорошего нашла?» — «Не знаю», — ответила я. Из спальной в переднюю вышли совсем одетые к выходу Вырубова и в<еликая> к<нягиня>. Подойдя к Р., они протянули ему лица: «Отец, до свидания!» — «Ну прощайте, прощайте», — говорил Р., крестя их и наспех целуя. Вырубова взяла его руку и приникла к ней, по телу ее пробегала дрожь. Я быстро спустилась по лестнице и, очутившись на улице, вздохнула всей грудью. Солнце садилось. Больше трех часов продолжалось это своеобразное «радение». Глава XI 1916 г. Мое последнее свидание с Распутиным Григорий Распутин. Середина 1910-х гг. К концу ноября 16 г. атмосфера дома на Гороховой становилась все более напряженной. С внешней стороны продолжался тот же базар, что и в прошлом году, но только прогрессирующий с каждым днем. Беспрерывные звонки телефона и звонок в передней. В приемной, столовой и спальной толпились и, как осы, жужжали женщины, старые и молодые, бледные и накрашенные, приходили, уходили, притаскивали груды конфет, цветов, узлы с рубашками, какие-то коробки. Все это валялось где ни попадя, а сам Р., затрепанный, с бегающим взглядом, напоминал, подчас, загнанного волка, и от этого, думаю, и чувствовалась во всем укладе жизни какая-то торопливость, неуверенность и все казалось случайным и непрочным, близость какого-то удара, чего-то надвигающегося на этот темный неприветливый дом чувствовалась уже при входе в парадную дверь, где, скромно приютившись около маленькой, всегда топящейся железной печки, сидел сыщик из охранки, в осеннем пальто зимой и летом, с неизменно поднятым воротником. Иногда это чувство напряженности становилось особенно ярко, и я по нескольку дней не ходила к Р., но потом опять тянуло туда, где в пустых неуютных комнатах бестолково маячился сибирский странник, воистину имевший право сказать о себе: «Чего моя левая нога хочет». Перед отъездом из Пет<рограда> я пошла проститься с Р. вечером. «Гр. Еф. в спальной, занят!» — встретила меня Дуняша и проводила в столовую. Здесь сидела Люб. Вал. и толстая чета Волынских. О них я знала только случайно их фамилию, названную мне Люб. Вал., а также то, что Р. их от чего-то такого «спас». Со мною вместе, только из другой двери, в столовую вошли Мара и Валя51 Распутины. Со своими взбитыми локонами, в темно-красных платьях bébé, с широкими кушаками, обе были нелепы до жути. Дикая сибирская сила так и прорывалась в их широких, бледных лицах с огромными яркими губами и низко нависшими над угрюмыми прячущимися, как у Р., серыми глазами пушистыми бровями. Какая-то разнузданно-кабацкая лень и удаль носилась вокруг их завитых по-модному голов, и их могучие тела, пахнущие потом, распирали скромные детские платьица из тонкого кашемира. «Ну как идут занятия, Марочка?» — ласково осведомилась Люб. Вал. Мара остановилась у стола и, налегши на него всей своей тяжестью, лениво жевала конфеты, беря их одну за другой из разных коробок и нехотя засовывая в рот. Не прожевав, она ответила невнятно: «По истории опять двойка...» — «Почему же так? — любезно осведомилась Люб. Вал. — Разве ты так не любишь историю?» — «А что в ней любить-то? — небрежно отозвалась Мара. — Учат там о каких-то королях и прынцах (она сказала: «прынцах», потом поправилась: «принцах»). На черта они мне нужны, коли давно померли. Вот еще арифметика, пожалуй, нужна. Эта хоть деньги считать научит!» Здесь она неожиданно резко захохотала и ушла, раскачиваясь и пошевеливая бедрами. Варя осталась. Положив свою кудлатую голову на руки, она внимательно, не мигая, смотрела на нас, отчаянно сопя, у нее полип в носу. Дуня принесла почту, Люб. Вал. стала разбирать конверты. Вскрыв один, она достала из него с некоторым удивлением длинную узкую ленту бумаги, на которой были напечатаны на пишущей машинке какие-то стихи. «Что такое? — сказала она, надевая пенсне, и стала читать. Это оказался анонимный пасквиль самого гнусного содержания, написанный наполовину по-русски, наполовину по-франц<узски>: в нем упоминалась пресветлая троица: банкиры Манус, Дмитрий Рубинштейн, с именами которых в Петрограде неразрывно связывали слухи о немецком подкупе и затевающейся измене, и Р. Говорилось о каком-то жемчуге, добытом в некотором месте, рекомендовалось промыть его почище, чтобы не оставить на руках следов; упоминалась какая-то дача, данная за услуги по назначению министром господина В. и еще ряд гнуснейших, очень мало мне понятных намеков на разные темные делишки. Слегка грассируя своим отличным фр<анцузским> яз<ыком>, не сморгнув, прочла Люб. Вал. всю эту мерзость. Положила обратно в конверт и сказала равнодушно: «Так глупость какая-то!» А Варя прогнусила: «Это для Мотки Руб., нам часто, почти каждый день что-нибудь такое присылают». — «Банкир Рубинштейн — это друг Григ. Еф.», — пояснила Голов. «Странный друг», — невольно вырвалось у меня. Люб. Вал. посмотрела на меня удивленно. «Но как же подобные инсинуации могут коснуться Григ. Еф.? — сказала она. — Он настолько выше всего этого, что даже не понимает». — «А в чем же выражает<ся> дружба Руб.?» — просила я. Люб. Вал. снисходительно пожала плечами: «Мало ли на что он может понадобиться Григ. Еф.? Руб. очень богатый и влиятельный человек, вот он, напр<имер>, им, — она указала на Волынских, — очень помог». — «О да, о да. Рубинштейн — это такой себе великий ум, о!» — воскликнул Волынский, поднимая руки. Дверь из спальной отворилась, и выскочил Р., потный, растрепанный, в светлой бланжевой рубахе с растегнутым воротом. Увидав меня, подбежал и обнял: «Дусенька, что давно не была? ну иди туда ко мне, потолкуем, люблю с тобой потолковать». — «У вас народу уж очень много, Гр. Еф.», — сказала я. Р. нахмурился, подумал, потом торопливо шмыгнул в переднюю и. открыв дверь в приемную, громко крикнул: «Можете уходить, галки, седни никуда не поеду», — и тотчас же вернулся в столовую. Но из передней, как шершни из разоренного гнезда, вылетели разномастные дамы, поднялся целый хор нестройных упрашиваний и жалоб, Р. досадливо отмахивался и заявил окончательно: «Сказал не еду и будя и уходите вон». Взяв меня за руку, увлек в спальную и плотно закрыл за нами дверь. Усадив меня на примятую постель, он сел рядом: «Какой шум у вас от этих барынь, Гр. Еф.», — сказала я. Он нахмурился и махнул рукой: «Што с ими будешь делать: всяка хочет, надо и ей — пущай ходят!» — «А лучше было бы, чтобы ходили поменьше, — заметила я. — Точно вы не слышите, как вас ругают и поносят, наверно же есть за что?» Р. усмехнулся: «Поношение — душе радость, понимать? Вот меня называют обманщиком и мошенником, а сама подумай, какой я обманщик? Кого я обманул, али выдал себя за кого? Как был мужик серяк села Покровского, так и есть. Сначала, правда, лихо я жил, худо жил и вино пил, и по кабакам шлялся, можно сказать, беспросыпно пил, но как посетил меня Господь, когды накатило на меня, тогды и начал я по морозу в одной рубахе по селу бегать и к покаянию призывать, а после грохнулся у забора, так и пролежал сутки, а очнулся — вижу ко мне со всех сторон идут мужики: «Ты, говорит, Гриша, правду сказал: давно бы нам покаяться, а то седни в ночь полсела сгорела». Тут и обрек я себя Богу служить и близко тридцать лет хожу правды ищу. А тут, говорят, обман — никого я не обманывал. А что тогда Феофан меня к царям привел, так я его о том не просил — сам он вздумал. А што я, верно, царям из Рассей бежать запретил, когда холера тогда была в японску войну и они было вовсе собрались и с детками бросать Рассею, а я сказал: «Ни, ни, не моги, все пройдет, и опять муравка вырастит зеленька, и солнце проглянет». Ну они мне поверили и в меня уверились. Люблю я их, жалко мне очень их! А какой тут может быть обман? Вона теперь кажний шаг мой на счету — видала куку* в прихожей?» Из столовой послышался голос Люб. Валер.: «Григ. Еф., мы уходим и поцеловать вас хотим». — «Погод меня здесь, дусенька, я мигом», — сказал Р. и убежал. Вернулся он очень скоро. Быстро подойдя к постели, наклонился ко мне и, взглянув на меня своим ярким хлыстовским взглядом, спросил глухим отрывистым шепотом: «А ты о евангельских блудницах как понимашь?» Подождал минуту и, видя, что я ничего не отвечаю, быстро-быстро зашептал: «Почему Христос с блудницами толковал, почему за собою их водил? почему им царство небесное обещал?» — он весь от волнения подпрыгивал и подплясывал. «Забыла што ли, как он говорил: «Кто из вас без греха, тот первый кинь камень». Я, говорит, не сужу, а вы как хотите. Это он к чему сказал? А разбойнику-то? нынче же будешь в раю. Это ты как понимашь? Кто к богу ближе-то: кто грешит али кто жизнь свою век свой суслит, ни богу свеча, ни черту кочерга? Я говорю так: кто не согрешит, тот не покается, а кто не покается, тот радости не знает и любви не знает. Думашь, сиди за печью и найдешь правду? ни... там не найдешь, только тараканов. Во грехе правда и Христа во грехе узнаешь, поплачешь и увидишь, понимашь? Ты об этом не думай (он бесстыдным жестом показал о чем), все одно сгниет, што целка, што не целка. Гниль-то убережешь, а дух от не найдешь. Вон они там, враги, все ищут, стараются, яму роют. Мошенник, плут, а я знаю, а они не знают. Мне все видать. Я, думашь, не знаю, что конец скоро всему. Как меня высунут, ну и покотится все. А только теперь еще надо бы правду открыть, да никто ее слушать не хочет. Думашь, царь все по-моему делат, это што я Питирима поставил, да Волжина52 и кое-каких из мини-стеров облюбовал — так это все очень мало дело; суть-та вовсе в другом, понимашь?» В столовой резко, пронзительно зазвонил телефон. Р., быстро сорвавшись, побежал туда, и сейчас же донесся его поспешный сиповатый говорок: «И зря ты все толкуешь, и все люцинерам на руку, бес в тебе, кака така дача? некакех дач мне не нужно! Собака ты, сплетке веришь». Говорок становился все раздраженнее и хрипел от злости. Потом Р. замолчал, очевидно, слушая, и, наконец, сказал примирительно: «Ну ладно, опосля потолкуем, приезжай седни после десяти. Ну прощай!» Р. вбежал в спальню и подошел ко мне. «Гр. Еф., — спросила я, — вы ушли и не кончили, в чем суть, что вы хотели сказать?» Он опустил голову и как-то весь согнулся, и передо мною мгновенно возник серый Сибирский странник. «Веру потеряли», — сказал он тихо. «Кто?» — переспросила я. «Веры в них не стало, в народе, вот что». И вдруг, опять переменившись, он сладострастно скрипнул зубами и, подсаживаясь ко мне, позвал: «Ну пойдем выпьем мадерцы, знатно есть там у меня, Ванька привез с Кавказа. Что припечались, дусенька?» Мы вышли в столовую, никого уже не было, кипел самовар. Открытый конверт с пасквилем лежал на краю стола. Я взяла его: «Гр. Еф., хотите я вам почитаю, что пишут про ваших приятелей Мануса и Рубинштейна?» Р. насторожился и, сумрачно косясь, взял у меня из рук пасквиль: «Дай-кося. Вот так... мать его, — благодушно заключил он, засовывая конверт в топившуюся печку. — Вишь, и не стало его — сгорело», — посмеиваясь, он подплясывал и притопывал. «Вот теперь давай чай пить, — заторопился он, подходя к столу и наливая мне чай. — Мало ли што люди брешут! Собака лает — ветер носит, а у этих самых Манусов деньжищ-то тьма, понимашь? Так пущай деньги-то ихи лучше на добры дела идут, чем зря они их раскидают. К деньгам ничего не липнет». — «Ну от такой грязи, что здесь пишут, все будет грязно», — сказала я. Р. махнул рукою: «Пустое говоришь, пчелка, эти бумагоедаки прокляты, гороху бы им моченого в... не верят они ни в бога, ни в черта, писаки окаянни. а человек без веры што? так одна дырка». Налив два стакана вина, он отхлебнул из одного и подал мне его; залпом выпив вино, он налил себе другой и заговорил, поглядывая на меня лукавым быстрым взглядом: «По-разному мы с тобою, душка, о жизни думам. Ты в поношении стыд видишь, а я радость, пусть говорят, дух-то, он знает. А погибать-то, всем нам погибать. Как круг петли ни ходи. в ее попадешь все единственно. Помрем, а добры дела останутся, люди-то зря заборчиков нагородили — ими только свет отгородили. Нешто не все одно, откуда деньги берутся, если их на добры дела тратить, и кто дела эти делат, мошенник ли, вор ли, дела-то нужны, а не он сам, понимать? тыщи-то, они и есть тыщи, честна ли, не честна ли — все одно хороша она, тыща!» Допив стакан, он неожиданным хищным движением схватил меня за плечи, опрокидывая назад. Вырвавшись, я вскочила из-за стола и убежала в переднюю. Прижавшись к стене, я ждала нападения, но выбежавший за мною вслед Р. молча снял с вешалки мою шубку и, помогая мне одеться, сказал ласково: «Не пужайся, пчелка, не трону больше, пошутил на прощаньице!» Я молчала. Р. покачал головой: «Почто не веришь мне, пчелка? а я всех жалею и его жалею, маленький он, слопат его! А и без меня бы все одно слопали!» Я взглянула на Р., он стоял у притолки и поглядывал искоса; внимательно взглянув в прятавшиеся зрачки его узких глаз, я увидала того другого, он быстро глянул мне в ответ и скрылся. «Ну прощай, пчелка! — сказал Р. — Поцелуй на прощанье». Я ушла. Это было в ноябре, а в декабре его убили. |
|
|
|
 3.3.2010, 4:45 3.3.2010, 4:45
Сообщение
#60
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Кучеренко И. В. Воспоминания унтер-офицера армейской разведки
Публикуемые воспоминания описывают события, происшедшие во время I Мировой войны на Северо-Западном фронте в сентябре 1914 г. Автор — Иван Васильевич Кучеренко, старший унтер-офицер команды разведчиков 253-го пехотного Перекопского полка, входившего в состав 1-й армии. Первый день мобилизации и за 5 месяцев пребывания на войне В деревне все тихо и спокойно, никто не думал, что в скором времени разразится гроза, гроза над всем миром, и что каждому из нас придется оставить на время, а иному и навсегда, свой родной дом, Отца, Мать, а иному жену и детей, и гордо стать с оружием в руках для защиты Царя и Родины. Но в деревне пока шла работа как и всегда, кто рожь возил со степи, а кто уже успел смолотить, возил зерно для продажи в ближайшее местечко. 17 июля в деревне почалась небывалая суматоха, десятники1 то и дело бегали со двора в двор, сзывая всех к управе, пришел и я. «Да в чем дело?» — спрашивали крестьяне друг у друга, но никто ничего не отвечал, ибо никто не знал о случившемся, да откуда могли мы знать, если наше село обхватило, как пожаром. Вдруг выходит на крыльцо сельский Староста и указал знак рукой замолчать, все утихли, насторочив свои уши, точно желая выслушать речь своего Старосты, который в свою очередь не заставил себя долго ждать и проговорил: «Вот что, ребята! Нашелся враг, который вновь нападает на нашу Матушку Россию, и нашему Батюшке Царю нужна наша помощь, врагом нашим является пока Германия». «Это немцы, немцы! — разносилось по толпе. — Ах! они окоянные, еще мало им, смотри, какими благами пользовались в России. Где первая земля — все занимают немцы, а еще и воевать вздумали». «Да оно всегда так, — проговорил чернобородый мужик. — Пусти свинью за стол, то она и лапки положит на стол, так и немцы, тут живет, хлеб-соль у тебя ест, а тебя во всякое время готов утопить в ложке воды». «Тише! тише! — раздался голос старосты. — Да вот что, ребята, для того чтобы не терять времени со списками, кто чувствует себя здоровым и годится послужить на пользу нашему Отечеству, то все вы должны явиться к 2м часам дня 18го июля в присутствие Уездного Воинского Начальства г. Алешки, и разойдись. Советую захватить 2 пары белья, а остальное все там вам дадут, только скорей, а я побеспокоюсь насчет подвод». «Не нужно, Иван Васильевич! Мы на своих поедем», — ответила уходящая толпа народа. Все забыли о своих полевых работах, во всех избах горели лампады пред Святыми Угодниками. Боже мой, сколько слез, пролитых при уходе нас. Моя пятилетняя девочка сидела на руках у меня и прижалась ко мне, говорила: «Тятя! зачем ты уходишь, на кого ты оставляешь нас, кто нам будет зарабатывать деньги и покупать нам хлеб», — и своими тоненькими ручками обхватила мне шею и крепко, крепко прижалась ко мне. Я слышал стук ее младенческого сердца, и своими губками начала целовать мне щеку. На вопросы ей я ничего не мог ответить и от слез не мог удержаться, лишь ответил: «Деточка, я скоро приеду». По всей деревне только и слышно прощанья да проклятие неслось на немцев. В это время пришли мои родители. Отец меня благословил крестом, который надел мне на шею, а мать в свою очередь, обливаясь слезами, говорила: «Милый мой сын, идешь ты на смертное дело, да спасут тебя от вражей пули мои материнские слезы». Я больше ничего не слышал и что делал, не знаю. Сердце как-то сжалось, и я торопился скорей уехать (чтобы не слышать бабьих рыданий). Лошади стояли запряжены, жена торопилась и укладывала в корзинку необходимые для меня вещи, но вдруг двери отворились и в избу вошел мой дед, которому отроду было 97 лет. «Бог помощь, дорогие детки, — проговорил дед кряхтя, садясь около меня рядом. — А что, Иван, уходишь?» «Да, дедушка! ухожу, пойдем проклятых немцев бить». «Да... дело неплохое, не мешало бы проклятым идолам поотрубать немного крылья, а то они уж больно широко их распустили». И дед взглянул на девочку, которая все время сидела у меня на руках, перекрестился и что-то шептал. Жена заявила, все готово, а мама зажгла лампаду, и все мы стали на колени и молились Богу, после чего я оделся и вышел на двор. Мне казалося шуткой, ибо военную службу я любил до смерти. В голове только и было: приеду я в полк, мне опять наденут в Унтера2, пойду на войну и во чтобы то ни стало постараюся заслужить Георгия, я сел на подводу, голос все больше и больше подымался. Я брату велел скорее выезжать, который все время что-то возился около лошадей. Мать и братья сел<и> на подводу, взял за вожжи и тронул лошадей. Мама крикнула вослед: «Сынок, перекрестись!» А жена держала девочку на руках, горько плакала... Брат погнал лошадей вовсю, и мне стало легче не слыша бабьих рыданий. В Алешках съехалось множество народа. Куда 18 июля приехали и мы. Толпы народа на улицах такие, что трудно было пройти сквозь их. Они носили портрет ГОСУДАРЯ, окрашенный флагами, шум был такой, что трудно было понять, одни пели «Боже, Царя храни», другие кричали: «Да здравствует Русский Царь со своим народом», а третьи кричали: «Долой немцев, смерть!», «Смерть немцам!», «Да здравствует Непобедимая Русская Армия! Ура!» При разбивке меня назначили в Перекопский полк 8 роту, но когда назначали в команду разведчиков, я стал просить, чтобы меня назначили. Ротный командир не пускал меня в разведчики, но я настаивал на том, что я хочу быть разведчиком, наконец меня зачислили в команду, и я был очень рад, но не долго полк стоял, и нас отправили на позицию на германский фронт, еще стояли мы в Херсоне, я всегда покупал газеты, в которых то и дело писалося о коварстве немцев, как они издеваются над мирными жителями, не щадя даже малолетних детей, коих убивали на глазах их родителей. Меня солдаты слушали, а на лице их можно было заметить, что каждый солдат желал как бы скорей поехать и жестоко наказать варваров за их зверские дела, наконец желанного мы дождалися. Не помню, какого числа мы приехали в М. Олита3, в котором мы простояли ровно 5 суток, приходит вестовой и передал приказание К. р.4 одеваться и скорей строиться. «Одеваться так и одеваться», — с улыбкой ответили солдаты, когда мы вышли из местечка, было уже темно, тучи начали сгущаться и брызгал дождь, а ветер как назло все больше и больше разбирался, переходу было все на 5 час, но при такой погоде трудно было окончить и за 10 часов. Ветер такой разобрался, что трудно было держаться на ногах, ночь темная, хоть выколи глаз, а дождь лил как с ведра, впереди нас шел обоз, который останавливался через каждые пять-десять шагов. Мы накинули на себя палатки, но они нас не спасли от дождя, все промокло насквозь и дрожь такая проняла, что зуб на зуб не попадешь, наконец полковник остановил обоз, а нам велел выйти наперед, и мы минули обоз, пошли веселей. Время приближалось к утру, а дождь все лил и лил, вот развиднелось и впереди нас показался густой и высокий лес, поверх которого сиял церковный Крест. «Да это деревня, что ли?» —отозвался мой товарищ. «Да, деревня, — ответил я ему, — вот Бог да поможет, дойдем, сейчас же разведем костер и посу<ши>мся». Но не так вышло, как мы думали. Командир полка передал: «Обозы назад! Батальоны влево в цепь», — обозы, один другого перегоняя, шарахнули назад, а мы бегом рассыпалися в цепь. «Ложись!» — команда К. П.5 Мы легли, несмотря что грязь была такая, что ноги не вытянешь, ротные командиры бегом побежали к полковнику. Полковник дал надлежащее распоряжение, мы поротно цепью пошли вперед. «Что за оказия? — ворчали солдаты. — Неужели проклятый германец уже добрался сюда, видь это Виленская губерня». «Пущай идет... Капканы скрозь расставлены, и дурной немец улезет, что только ушами ляпнет». «Да, начальство знает, что делает, нам их не учить», — повторяли солдаты. Впереди нас была речка. Она неглубока и узка, и мы по шею в воде, помогая друг другу, перешли ее и направились в лес. Я не знаю, где девалося три батальона, но 2й батальон остановился в лесу. Здесь батальонный Командир сказал, нашему батальону дана задача не допустить переправу немцев через реку, и нам необходимо выслать к реке разведчиков. В это время я был при роте, а потому меня первого вызвал К. р.: «Кучеренко!» «Чиво изволите, В. Б.»6, — и я быстро подбежал к нему. «Вот что, голубчик, возьми себе товарища и иди вот в таком направлении (и указал мне рукой), сейчас будет река, и ты хорошо рассмотри», — но не успел окончить приказание К. р., как раздался оглушительный выстрел с орудий. Снаряд разорвался над лесом, и осколки посыпались по лесу. Тут же повторился второй и третий, и пошла польба такая, что нельзя было понять, кто куда стреляет: они на нас, наши батареи на них, коих шрапнели с визгом летали и рвались впереди и сзади нас. К. р. указал мне рукой идти. Я пошел с товарищем вперед. Когда мы вышли из леса, была открыта поляна, на которой росли лишь маленькие кустарники, мы сбросили вещевой мешок и ползком стали пробираться вперед, вот опять лес, я влез на выс<о>кое дерево, и мне было хорошо видно вся река и что делалось на стороне противника, я видел, как германцы перебегали с лесу в окопы, я начал было их считать, но их так было много, что я бросил считать и лишь смотрел в бинокль, но тут мне пришлось излесть, так противник меня заметил и весь свой огонь перевел по этой опушке леса, в которой находились мы. Мой товарищ сначала было бросился удирать, но я крикнул ему «Ложись!». И он лег. Германец не меньше как 50 снарядов выпустил по нас, но мы осталися невредимы и, окончив свое дело, благополучно вернулися к своим, и обо всем замеченном доложил К. р. Вечером я провел батальон к реке, и мы себе устроили окопы. Ночь прошла спокойно, вот и утро, а все тихо, смотрим: ходит женщина на протии<во>положной стороне, она машет руками и кричит: «Нэма пане. Герман ушел к бесу. Кури, утки забрав». Мы, не подозревая ничего, вышли с окоп, но тут же раздался залп орудий. Снаряды перелет, второй! недолет, от которого задрожала земля, но благодаря 6 и батаре<е> 64-й дивизии, которая своим огнем заставила замолчать противника. Вот уже вечер, противник вновь открыл пальбу с орудий, но в течение всего дня у нас даже не было раненых. Я был наблюдателем, мне слышно было, что у противника идет какая-то спешная работа, стук колес доказывал, что противник что-то подвозит ближе к реке. Я обо всем доложил К. б.7 «Наверно, сегодня противник намеревается начать переправу», — сказал К. б. — А ну-ка, начнем и мы хитрить немцев». И батальонный приказал 10и человекам бросить ружья и амуницию и вовсю бежать в лес. Германец увидал и открыл губительный огонь по отступающим, от которого было четыре легко ранены. Германец был уверен, что мы все удрали, а потому, лишь только стемнело, начал переправу. Я, будучи в разведке, увидел, как немец начал переправу, и в свое время доложил Начальству. Здесь-то мы немца и поймали и такого завдяли ему перцу, что он долго... долго будет помнить ночь 15 сентября и реку Неман. На следующий день мы переправились через реку, но германцев и след простыл, мы увидели женщину, которая вчера кричала нам, на вопросы она отвечала: «Немцы меня силом и под угрозой смерти заставляли кричать и обманывать вас». Немцы ушли, лишь оставили следы крови да могилы, в которых, по рассказам местных жителей, немцы хоронили по несколько десятков солдат своих в одну яму. Нам дали обед, после которого пошли догонять немцев. Везде валялись лошади да мертвые германские солдаты, которых они не вспели похор<он>ить. В одном месте лежало много убитых германцев, коих подбирали наши санитары. Я спросил: «Много уже подобрали?» — «320 человек уже похоронили», — ответили санитары. — «Триста... двадцать... человек...», — подумал я и посмотрел в сторону, где еще лежало приблизительно человек еще 300. Минули Сувалки и остановилися в какой-то деревушке, вот стемнело, стал брызгать дождь, а тут тревога, за 5 минут полк построен, священник подошел и, осенив нас крестом, проговорил: «Да поможет вам сам Господь». Мы пошли, куда? Никто не знал, солдаты меж собой шутили: «Эх! попадись окоянный немец. Раздушу, как мышонка!» — проговорил оди<н> из самых здоровенных солдат. Недолго мы шли, и рассыпалися в цепи, и цепью начали продвигаться вперед и вперед, наша артиллерия стреляла перекидным огнем. Вот пошла и оружейная стрельба, а также затарахтели пулеметы, а мы перебежками все вперед и вперед. Бой разыгрался не на шутку, стрельба всех родов оружия, команда ротных Командир, крики санитаров, стоны раненых, все это сливалося в один гул, от порохового дыма образовался нечто туман. Картина была ужасная. Наконец вот и окопы германцев. Ротный Командир выскочил вперед, выхватив свою шашку, видно, Герой хотел крикнуть: «За мной вперед, ура!», — но был сраженный вражей пулей. Такая участь постигла и К. б., а полуротный был ранен, и мы осталися без вождя. Но в нас такая была злоба на немцев, что мы сами с криком «Ура!» пошли в штыки и много перекололи немцев, а остальных 69 человек забрали в плен. Настала полная тишина, лишь кое-где слышны были стоны раненых. Я начал искать тело любимого К. р. Штб. Кап.8 Николая Ваймана. Смотрю, лежит раненый солдат весь <в> грязи. «Во что раненый?» — спросил я его. «В обе ноги, — ответил солдат, — помоги ради креста добраться мне на перевязочный пункт». «Да не бро<шу> тебя, товарищ», — и я лег, а ему велел взбираться мне на спину. Он взобрался, я начал подыматься, но он такой был тяжелый, что сколько я не кряхтел, но поднять не мог. Несчастный смотрит, что дела не будет, и засмеялся: «Нет, товарищ, ты меня не донесешь». Он сел опять на землю, а я весь истекаю потом, побежал искать санитаров, которым указал, где лежит моя ноша, а санитары пошли и подобрали Героя. Тело Командира также подобрали. Остальная часть ночи прошла спокойно, приближалося утро, кохни подвезли нам ужин, но лишь стало разведнеться, мы опять пошли в наступление, но лишь успели мы пройти несколько сот шагов, как загремели неприятельские батареи. Тут начали палить и наши, пулеметы, как тенер, запели песню, помогая ревущему басу. Бой был ужасным и продолжался целый день. Пули и шрапнели летали и рвалися над нашими головами, земля дрожала. Клубы дыма густой струей подымалися вверх от горящих домов. Казалось, что это уже Конец света, но мы все вперед и вперед. Стало темно, вот и стрельба прекратилася, лишь обломки подгоревших домов трещат и с грохотом падали на землю. Мы пошли веселей, вот и окопы немцев, но немцев и след простыл, оставив раненых и убитых, а остальные ушли. Мы стали их догонять и гналися ровно 45 верст, перешли границу, началася Германия, а немцы все удирают и удирают, наконец остановились. И мы выкопали себе ноч<ью> окопы, в которых не выходя просидели ровно 15 суток. Как только развиднелось, то мы увидали впереди себя (шагов в 400) германские окопы. «Отвечайте! Как К. р.! Здорово, немчуры!» — шутя, кричали мы немцам, которые выглядывали с своих окопов. Стрельба шла без перерыва, а иногда совершенно утихала, все бы ничего, только пища была всегда холодная, более часто нам выдавали по ½ фунта сала, в сушки, которого в нас образовался целый караван. И мы с товарищем придумали хорошую выдумку, пошли вечером, нашли себе жестяную кострюлю, продолбали в дне несколько дырок, назбирали около горелых домов перегорелого угля и <в> окопе развели огонь. Дыма нет, а жар мы <...>, и таким образом мы с товарищем жили все 15 суток припеваючи. Чай у нас есть, сало жарим, раз достали картошки и заделовали котлеты и что только нам было угодно. Солдаты этой смо<л>янкой были недовольны. Шутя, между собой говорили. Остановка за яйцами, а то и цыплят бы можно расплодить. Дурно сидим, а все-таки была польза. К чемайданам9 мы привыкли и не обращали на них внимания, ибо немец их пустил не меньше как 300 штук в каждый день, и если подвести итог выпущенных число чемаданов за все 15 суток, то получится 4500 снарядов, которыми даже не ранил ни одного солдата. Бывало, как летит снаряд, то смеялись и говорили мы: «Вот! Дурной немец. Шлет нам гостинец, который попадает в пустую бочку». Наконец мы, оставив свои окопы, перешли в наступление. Немцы, увидав наше приближение, начали удирать, лишь оставив одну роту, которую мы сомняли, как Кошка Мышку, а за остальными по их пятам гналися ровно три дня, лишь остановило нас заранее приготовленное ими проволочное загрождение, около которого мы стояли ровно 2 месяца. Здесь мы подкопалися сапами10 под проволоку, бой у нас шел лишь ручными бомбами и ружейным огнем, ибо расстояние между нами было самое большее 50 шагов. Один раз мы, прорезав проволоку, перебралися на их сторону. Часовые нас увидели и пустилися удирать, мы за ними. Мой товарищ кричит удирающему немцу: «Гальт! Гальт!» Но немец удирал вовсю. Мы открыли стрельбу и убили немца, сорвав с него погоны, и возвратилися к своим. Но 28 января меня ранело в штыковом бою, и я сейчас лежу в Госпитале в Спиридоновской Богодельне г. Москве11. Чисто одевают меня и хорошо кормят. Сестры милосердия заботятся и беспокоются о нас, как о своих детях, а доктора посещают нас в день несколько раз. За удачн<ую> разведку на реке Неман я награжден Георгием 4 ст. Стар. Ун. Оф. Команды разведчиков 253 Пех. Перекопского полка Иван Васильев Кучеренко. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Десятник — заведующий десятком изб или приближения людей, старший артельщик. 2 Унтер-офицер — первый военный чин после звания рядового или ефрейтора. 3 Малая Олита — город в Виленской губернии (современное название — Алитус). 4 Здесь и далее: командир роты. 5 Здесь и далее: командир полка. 6 Ваше благородие. 7 Здесь и далее: командир батальона. 8 Штабс-капитан. 9 Имеется в виду разновидность снарядов. 10 Сапа — ров, траншея, применявшийся при осаде крепостей для постепенного под огнем противника к его укреплениям. 11 Спиридоновская богадельня находилась на С.-Петербургском шоссе, названа по фамилии попечительницы Веры Богдановны Спиридоновой. 12 Турция вступила в I Мировую войну 16(29).10.1914 на стороне германского блока. В декабре 1914-го — январе 1915 г. турецкая армия потерпела поражение от русских войск в Закавказье. Публикация Е. Б. ТИМОФЕЕВОЙ |
|
|
|
 5.3.2010, 4:22 5.3.2010, 4:22
Сообщение
#61
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Реформатор, прагматик, государственник
Деятельность А.Н. Косыгина в оценке академиков 22.02.2007 Исполнилась – 21 февраля – 103-я годовщина со дня рождения видного государственного деятеля, одного из руководителей СССР Алексея Николаевича Косыгина. С его именем связывают проведение невиданной в истории эвакуации в годы Великой Отечественной войны, экономические реформы второй половины 60-х годов (благодаря которым наша страна получила одну из самых успешных в ее истории пятилеток), масштабные экономические проекты, внедрение достижений науки и техники в производство. Фигура Косыгина-созидателя возвышается над иными мелкотравчатыми российскими премьерами 1990-х годов, которые не поднимали производство, а разрушали его, выпрашивая подачки у Международного валютного фонда. О значении этой неординарной и в то же время противоречивой личности рассуждают за "круглым столом" известные экономисты – академики РАН Леонид Абалкин, Олег Богомолов, руководитель секции экономики РАН Дмитрий Львов, директор Института проблем рынка РАН Николай Петраков. - В руководстве Советского Союза были трезвомыслящие люди, прагматики, которые понимали необходимость модернизации страны и способны были ее осуществить. В ряду таких имен, как Кузнецов, Вознесенский, Машеров, называют и Косыгина. Действительно ли он принадлежал к реформаторам-постепеновцам, идеи которых не дало осуществить косное большинство? Леонид Абалкин: - Начну с того, что Алексей Николаевич Косыгин прошел очень сложную жизненную школу. Отправным звеном в его политической деятельности была практика реальной экономики. В 1939 году, в 35-летнем возрасте, он назначен наркомом текстильной промышленности. Во время блокады Ленинграда организовал бесперебойную работу "дороги жизни", которая спасла город. Косыгин показал себя как талантливый организатор и управленец. - Боюсь, что некоторые либеральные публицисты не согласятся с Вами. Вот что писал, например, некто Дмитрий Травин в еженедельнике "Дело": "В нем не было изюминки, позволяющей родить миф о герое, не было ни одной привлекательной для человека 80-х годов черты…Поколение 1937 года … было поколением дилетантов". Олег Богомолов: - Я категорически не согласен с автором, который одним росчерком пера дал уничтожающую характеристику целому поколению. Действительно, Косыгин был в числе руководителей нашей промышленности, которые пришли на смену репрессированным кадрам в 1937-38 годах. Данный выбор Сталина, как показали позднейшие события, был в целом удачным. Среди этой группы оказалось немало выдающихся руководителей промышленности. Назову хотя бы такие имена: Ованнес Тевосян, Иван Лихачев, Дмитрий Устинов…Безусловно, Косыгин был крупным государственным деятелем, личностью, известной не только в узком кругу номенклатуры, но и среди широких слоев населения. Он руководил легкой и пищевой промышленностью, был министром финансов, первым заместителем Председателя Госплана, Председателем Госплана, первым заместителем Председателя Совета Министров, Председателем Совета Министров… Обращает на себя внимание контраст между сегодняшней кадровой чехардой и продвижением по служебной лестнице управленцев в послевоенное время, когда они постепенно приобретали, нарабатывали опыт и знания. Mне приходилось неоднократно встречаться с Алексеем Николаевичем. Так вот, он обращал на себя внимание знанием деталей работы крупных предприятий страны, руководителей этих предприятий, тонкостей технологии. Но даже не это заставляет меня сегодня сказать теплые слова в связи с памятью этого человека. Косыгин, равно как и ряд других деятелей такого ранга в ту пору, не слишком заботился об интересах определенного ведомства или отрасли, для него приоритетными были интересы всего государства. И вот эта его борьба с ведомственными поползновениями обращала на себе внимание. Николай Петраков: - Я склонен рассматривать Косыгина как белую ворону в тогдашнем сталинском, а затем брежневском руководстве. Не случайно в конце жизни он был оттеснен с поста Председателя Совета Министров. Но сейчас мне хотелось бы остановиться на реформах Косыгина. Если говорить современным языком, то основная философия этих реформ заключалась в повышении роли менеджеров социалистических предприятий, усилении их самостоятельности, изменении критериев деятельности. В чем я вижу здесь связь с современностью? Еще не так давно, перед массовой приватизацией в нашей стране, в общественном сознании наблюдалась некая фетишизация частной собственности. Последняя рассматривалась как панацея от всех бед. Какие-то основания для этого имелись. Действительно, мы отставали от западного мира по уровню жизни, допускался перерасход первичных ресурсов, металлоемкость национального продукта превышала этот показатель в США, Западной Европе и Японии. Все эти недостатки экономисты нашего поколения видели и критиковали их. Однако вниманием общественности сумели завладеть младореформаторы, которые предлагали более "простые способы" решения проблем. Им казалось, что достаточно создать миллионы частных собственников (по Чубайсу), и одна только смена собственности принесет эффект! - Я помню, как в 1989 году газета "Известия" с пафосом восклицала: "Частный собственник – это революционер!" Николай Петраков: - Жизнь быстро разочаровала легковерных. Многие приватизированные предприятия очень скоро пошли на дно. Те, которые еще остались, действуют по схеме: выжать максимум прибыли за кратчайший период, не задумываясь о будущем. В добывающей промышленности резко сократились расходы на геологоразведку, модернизацию оборудования. 80 процентов технологического оборудования изношено. Люди, которые не вкладывают деньги в его обновление в нефтяной и других добывающих отраслях, рубят сук, на котором сидят. К чему я клоню? К тому, что, как показывает практика, сама по себе смена собственности – может быть, и важный, но все же вторичный фактор. Кстати, на Западе это хорошо известно. Например, во Франции есть приобретшие мировую славу автомобильные фирмы "Рено" и "Пежо". В одной из них контрольный пакет акций принадлежит государству, а другая – частная. Однако по поведению на рынке вы никогда не скажете, какая у этих фирм форма собственности. Из них то одна выходит вперед, то другая… Очень многое зависит от команды менеджеров, которую набрал собственник. Последний, в свою очередь, должен найти оптимальную территорию для свободы действий управленца. Если дать ему много этой свободы, то менеджер уйдет из-под контроля; если слишком сузить поле деятельности, - не сможет проявить свои способности. Большую роль играет выбор цели собственником. Одно дело, когда менеджер ориентирован – как это часто имеет место сейчас - на то, чтобы "выжать все". И совсем другое дело, когда перед ним ставится стратегическая цель… - Но вернемся к косыгинским реформам… Николай Петраков: - Реформы эти как раз и представляли собой попытку без смены собственности, за счет изменения функций и критериев оценки деятельности менеджеров (директоров предприятий) повысить эффективность производства. Подчеркну: без смены собственности. Удалась бы эта попытка, будучи доведена до конца? Трудно сказать. Как известно, история не знает сослагательного наклонения… И тем не менее 1966, 1967, 1968 и даже 1969 годы стали самыми благополучными для советской экономики. Заработали экономические рычаги. Кроме того, сказалось еще такое обстоятельство: хрущевские совнархозы в ходе реформы были ликвидированы, но министерства еще не набрали большой силы. Зато предприятия уже имели какую-то самостоятельность… Но потом министерства взяли все бразды правления в свои руки. К сожалению, политическая ситуация в Восточной Европе не позволила развить эти реформы. Нас "подсекла" обстановка в Чехословакии, руководство которой выбросило лозунг "В рыночный социализм!", чем разозлило советских правителей. Дело закончилось вводом в эту страну наших войск. Реформы Косыгина были приглушены по политическим причинам. Теперь люди, которые не хотели этих реформ, направляли указующий перст в сторону Чехословакии: вот, посмотрите, мол, к чему могут привести ваши преобразования! Но ведь экономика застопорилась, надо куда-то двигаться – отвечали их оппоненты. И вот тут-то, к середине 70-х годов, нашей паршивой экономической системе была дана подпитка в виде высоких цен на нефть. После чего "наверху", по-видимому, решили, что мы обойдемся без всяких реформ… Олег Богомолов: - Состоявшийся в сентябре 1965 года пленум ЦК КПСС, на котором были сформулированы и провозглашены экономические реформы, вошел в историю… Думаю, определенный толчок подготовке к этому пленуму дали изменения в хозяйственной практике ГДР. Эта страна как бы находилась на иждивении Советского Союза. Каждый новый пятилетний план сопровождался крупным кредитом восточным немцам. Наконец, в начале 60-х годов руководителю ГДР Вальтеру Ульбрихту в кредите было отказано. Косыгин довольно откровенно сказал своему коллеге: уровень жизни у вас выше, поэтому изыскивайте внутренние ресурсы. Ульбрихт уехал сильно огорченным, но сделал правильные выводы: собрал своих экспертов и поручил им готовить предложения по совершенствованию хозяйственного механизма. И уже с 1963 года до последнего года жизни Вальтера Ульбрихта (он скончался в 1973 году) в этой стране наблюдался довольно быстрый рост производства, национального дохода, производительности труда и так далее. - Но политических изменений не было? - Политических изменений не было, но расширили права предприятий, повысили роль хозяйственного расчета. Велись дискуссии о ценах как инструменте в руководстве экономикой. Характерно, что даже после кончины Ульбрихта в ФРГ отмечали его роль как человека, который доказал способность немцев справляться с трудными ситуациями. Думаю, что реформа в ГДР была ближе по духу нашим ортодоксам. В их понимании это был прагматичный подход. Косыгин с большой осторожностью относился к предложениям по экономической реформе, но все-таки оказался восприимчивым. Он шел на преобразования во многом под влиянием своего окружения, среди которого было немало способных людей, в том числе среди помощников. Для подготовки докладов привлекались прогрессивно мыслящие экономисты. И все-таки у меня сложилось впечатление, что крупным, инициативным реформатором Косыгина назвать нельзя. Это был человек сталинской закалки, он с большим уважением относился к Сталину, его деятельности. В начале 70-х годов готовился очередной доклад Косыгина по пятилетнему плану. Большая группа ведущих экономистов работала над этим докладом за городом. В эту группу входили Абел Аганбегян, Лев Гатовский, Алексей Румянцев, Николай Иноземцев, Георгий Арбатов, ваш покорный слуга. Аганбегян приехал из новосибирского Академгородка с текстом, который содержал ряд предложений по преобразованию нашей экономики. С докладом на эту тему он выступал в Совете Министров в присутствии Косыгина. Вот мы и решили, что на базе этих предложений можно подготовить записку для Брежнева. И такую записку мы подготовили. Но помощник Косыгина А.Г. Карпов, который был прикомандирован к группе машинисток-стенографисток, дал им команду передавать ему один из экземпляров печатаемых текстов. В результате наша записка попала к нему на стол. Карпов схватился за голову и побежал докладывать своему шефу. Мы уже хотели было подписать записку и официально ее представить, как Алексей Николаевич вызвал нас и начал, как мальчишек, отчитывать. - Что вы здесь пишете, что председателем Госплана должен быть член Политбюро? Это что – ваше дело? Это Политбюро должно решать. Все наклонили головы, а Косыгин тем временем продолжал: - И вот здесь написано, что у нас в стране начинается инфляция. Какая инфляция? У нас что, цены на хлеб выросли? На сахар – выросли? Затем встал Николай Иноземцев и смягчил выговор, который мы вынуждены были выслушать. Он сказал, что мы не вмешиваемся в дела Политбюро, а стремились подсказать руководству… Почему предложили члена Политбюро на пост председателя Госплана? Потому что в последнее время стали набирать силу ведомственные тенденции, а необходимо защищать общенародные интересы. И Косыгин несколько сбавил тон… Думаю, что этот случай показателен. С одной стороны, Алексей Николаевич пытался улучшить экономическое положение, укрепить интересы страны в целом, но, с другой стороны, как я уже сказал, был достаточно осторожным, не склонный к резким движениям политиком. - В своей книге "От Сталина до Ельцина" бывший председатель Госплана СССР Николай Байбаков рассказывает, как на закрытом заседании Президиума Совета Министров СССР Алексей Косыгин не был готов воспринять информацию о том, что предприятия снижали качество продукции, увеличивая ее количество. Часть прибыли возрастала не за счет роста производства и ресурсосбережения, а путем скрытого повышения цен на выпускаемые товары. Но разве не наблюдали мы нечто подобное, да еще в гипертрофированном виде в 1989-1990 годах, когда проводилась новая экономическая реформа, и предприятия, прикрываясь хозрасчетом, погнались за выпуском дорогостоящих товаров? Непонятно только, какие моменты косыгинской экономической политики были взяты тогда за отправную точку: положительные или отрицательные? Леонид Абалкин: - Не надо перепрыгивать через временные этапы… Давайте обо всем по порядку. Реформы, связанные с именем Косыгина, - это результат некоего общественного движения. Мы получили прекрасную пятилетку – с 1966 по 1970 годы. За весь ХХ век были только две такие успешные пятилетки (первая – в 1923-1927 годах), когда повысились эффективность производства, национальный доход, производительность труда, выросли доходы населения. В конце 60-х годов у нас даже появился избыток произведенного мяса, и мы арендовали в странах СЭВ холодильники для того, чтобы его хранить. - Откровенно говоря, в это верится с трудом, учитывая последовавшие в 70-е – 80-е годы очереди… Леонид Абалкин: - Я советую вам обратиться к фактической статистике конца 60-х годов. Тогда еще не было предположений, что возможен дефицит. В стране началось массовое кооперативное строительство. Привлекались деньги населения для улучшения его жилищных условий. Дорогостоящие товары продавались гражданам в кредит. Это были очень большие перемены. Они качественно отличались от тех, что происходили у нас в 90-е годы прошлого века. Конечно, сейчас, спустя почти сорок лет после косыгинской реформы, мир неузнаваемо изменился. Другая общественная ситуация, качественно иные выводы предлагает наука. В 1964 году академику Василию Немчинову важно было доказать в своей статье в журнале "Коммунист" необходимость существования системы обратных связей (без чего невозможен рынок), ориентации на объем реализованной продукции (а не вала), перехода к хозрасчетному планированию. Сейчас же мы более реалистично смотрим на рыночное хозяйство. Человечество вступило в век знаний, у государства этой эпохи появились новые функции по отношению к интеллектуальному капиталу, образованию, культуре, науке, экологической среде. Предприниматели, которые фактически стали регуляторами всех экономических процессов, должны также стать важным институтом гражданского общества и социально ориентированной рыночной экономики. Необходимо сочетание многообразных форм собственности – государственной, частной, коллективной, кооперативной, мелкой, крупной... Это основы совершенно нового мировоззрения, но беда многих реформ, которые проводились в 90-е годы, состояла в некомпетентности самих "реформаторов", незнании ими реальной экономики, ориентации на чисто книжные понятия. Реформы 1990-х оказались куда более идеологизированными, чем реформы 1960-х. Иные "реформаторы" до сих пор находятся в плену идеологем, которым все мы, дескать, должны непременно следовать, не считаясь с реальной ситуацией. Например, продолжать "вытеснять государство" из экономики. Отказывать ветеранам в повышении пенсий, несмотря на наличие колоссального стабилизационного фонда. Хочу затронуть еще один очень важный момент. В то время, когда готовился идеологический багаж косыгинской реформы, широкое распространение получила теория конвергенции. Среди ее авторов были не только западные ученые - известный американский экономист Джон Гэлбрейт и нобелевский лауреат по экономике, голландский экономист Ян Тинберген, но и два российских мыслителя – Андрей Сахаров и Питирим Сорокин. Создатели этой неординарной теории пытались взять все лучшее, что было в плановой и рыночной системах, и соединить их. Сейчас мы вступили в новый период осмысления теории конвергенции. Президент Международной экономической ассоциации, крупнейший венгерский экономист, в прошлом исследователь проблемы дефицита Янош Корнаи считает, что необходимо изучить феноменальный экономический успех Китая и Вьетнама, которые не повторяют того, что делается в России и СНГ, Европе и Соединенных Штатах. По существу Китай и Вьетнам бросили вызов общественной науке, разрабатывая вариант "третьего пути". Этот опыт требует серьезного изучения. Дмитрий Львов: - Я хочу присоединиться к уже высказанной характеристике Алексея Николаевича Косыгина как уникальной личности, разностороннего хозяйственника. Он досконально знал не только легкую промышленность, но и ТЭК, другие отрасли. Косыгин хорошо представлял, что научно-технический прогресс – один из переломных факторов в деле успешного осуществления реформы. Он понимал необходимость перехода от чисто количественных показателей к качественным. Понимал роль прибыли, влияние ценностных факторов, значение основных фондов, которым располагали предприятия, и целого ряда показателей, связанных с учетом ресурсных составляющих, значение охраны окружающей среды. Кажется, мы так до конца и не постигли роль хозрасчета в развитии косыгинских реформ… Глубочайшее знание конкретных производств, разных отраслей помогли ему осознать необходимость связи секторов народного хозяйства под углом внедрения и эффективного использования новой техники. Олег Богомолов: - Комплексная программа научно-технического прогресса была разработана при Косыгине, в середине 70-х годов... Дмитрий Львов: - И еще. "Косыгинские реформы" естественных монополий на порядок выше того, что проделали за последние годы с РАО "ЕЭС России" и ОАО "Газпром". Олег Богомолов: - Помимо всех факторов, о которых здесь говорилось, необходимо учитывать и внутреннюю борьбу, соперничество двух лидеров. Многие инициативы Косыгина встречали сопротивление Брежнева. Брежнев не мог не понимать, что Косыгин как личность, руководитель – на порядок выше его. Поэтому он относился ревниво и к реформам, и успешной восьмой пятилетке, которую эти реформы обеспечили. Говоря о Косыгине, необходимо вспомнить ряд инициатив тогдашнего главы правительства, за которые мы ему до сих пор благодарны. Например, за развитие массового автомобилестроения для потребителя, которое стало возможным после сооружения Волжского автомобильного завода (ВАЗа), начавшего выпускать знаменитые "Жигули". Леонид Абалкин: - В прошлом году отмечалось 40-летие со дня основания Волжского автомобильного завода. Почему этому юбилею мы придаем огромное значение? Потому что в советское время ВАЗ стал не просто огромным заводом, а еще явился символом передового отечественного машиностроения, современной инфраструктуры, технических станций по обслуживанию автомобилей, опыта работы на экспорт… Дмитрий Львов: - Это передовые методы организации производства, труда и его оплаты. Должна быть полная уверенность, что у нас не стащат всю страну, так как стащили ВАЗ. - Хотелось бы добавить субъективное мнение выходца из деревни. Мои земляки до сих пор благодарны тогдашнему руководству страны за внимание к селу в 70-е годы и первой половине 80-х. Тогда активно велось жилищное, капитальное, дорожное строительство, прибывала новая техника… Олег Богомолов: - Тогда цены на нефть вмешались… - Николай Яковлевич, не хотите резюмировать нашу беседу? Николай Петраков: - У меня довольно пессимистическое отношение. Россию я воспринимаю как страну неиспользованных возможностей. Посмотрите на ХХ век: все реформы сорвались. Столыпина убили, нэпманов посадили… После смерти Сталина Председатель Совета Министров Маленков начинает говорить правильные вещи, выдвигает программу преимущественного развития сельского хозяйства и легкой промышленности, отменяет налог на каждую яблоню в сельской местности. Но происходит очередной зигзаг в борьбе за власть, и Маленков уходит в отставку вместе со своими идеями. И "косыгинские реформы" - это также пример неиспользованных возможностей. Затоптали, замотали… Но ничегониделанье, бег на месте приводят к взрыву – в 1917 году, 1991 годах… - Но ведь сегодня на круглом столе приводились примеры двух успешных пятилеток – благодаря оптимальному сочетанию в них планового и рыночного начал. Были высокие темпы экономического роста… Николай Петраков: - Но почему они не сохранились? Леонид Абалкин: - Я хотел бы сформулировать три коротких тезиса: что необходимо, на мой взгляд, для успеха реформ. Первое – наличие политической воли у лидеров страны для реализации намеченных программ. Когда дряхлеющее политическое руководство не желает ничего менять, это обрекает проект реформы на гибель. Второе – наличие массовых общественных настроений. Должен заметить, такой мощный общественный подъем и поддержка реформ, как во второй половине 60-х годов, более не повторялись. - Даже во времена перестройки, когда выплеснулось столько общественных ожиданий? Леонид Абалкин: - Не было! Люди уже устали от обещаний, ждали какого-то рывка, очень .быстрого… Впрочем, нацеленные на перемены общественные настроения были; нам их сейчас как раз и не хватает. Третье. Нужна взвешенная программа по коренному обновлению аппарата. Именно аппарат задушил "косыгинскую реформу", никто другой. Был такой лозунг: кукурузу пережили, переживем и реформу. - И сейчас может произойти то же самое… Леонид Абалкин: - Да. Мы вот уже несколько лет кричим про развитие малого бизнеса, но аппарат, который сидит в правительстве, считает его вредным, преступным, уклоняющимся от налогов. И не пропускает. Итак: наличие политической воли, серьезной программы действий, эффективно работающего аппарата, который должен быть раза в три сокращен, массовые общественные настроения в поддержку преобразований – вот непременные условия их успеха. Беседу вел Александр Мешков |
|
|
|
 6.3.2010, 3:46 6.3.2010, 3:46
Сообщение
#62
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
А. С. Зуев, 2000 - www.sati.archaeology.nsc.ru
Афанасий Иванович Бейтон В военной истории России немало военачальников и полководцев, принесших славу российскому оружию. Одни из них возведены в ранг национальных героев и широко известны, другие в силу разных причин почти забыты, и даже профессиональные историки мало что о них знают. К числу таких "забытых героев" принадлежит и Афанасий Иванович Бейтон. Иностранец на русской службе, он, возможно, остался бы безвестным профессиональным наемником, каких в России XVII в. было немало, если бы волею судеб не оказался руководителем обороны Албазина от маньчжуров в 1686–1687 гг. – события, сыгравшего чрезвычайно важную роль во взаимоотношениях России с Цинским Китаем. Почти все историки, так или иначе изучавшие "албазинское сидение", упоминали Афанасия Бейтона. Однако никто из них не счел нужным проследить биографию этого человека и по заслугам оценить его вклад в дело защиты российских владений в Приамурье1. Конечно, задача эта не из простых, поскольку полной и подробной автобиографии Бейтон не оставил, а имеющиеся о нем сведения буквально по крупицам рассыпаны в многочисленных архивных делах, хранящихся в фондах Российского государственного архива древних актов. По этой же причине и в настоящей статье не ставится задача восстановить в деталях биографию Бейтона. Цель гораздо скромнее – собрать все имеющиеся в опубликованных источниках и литературе данные о Бейтоне, дополнить их архивными находками, на основе чего дать представление о важных вехах его жизненного пути и роли в обороне Приамурья. По поводу происхождения, национальности и обстоятельств появления Бейтона на русской службе в литературе высказывались и существуют до сих пор разные версии. Одни историки (Е. Равенштейн, П. Шумахер, Э. Демин) считали его прусским дворянином2, другие (К. Цепелин, П. Словцов, Л. Ситников) – выходцем с Британских островов, шотландцем или англичанином3. По мнению тех и других, он служил одно время в польской армии, попал в русский плен и был сослан в Сибирь. При этом П.А. Словцов утверждал, что Бейтон на момент пленения имел чин подполковника польской армии4, а К. Цепелин "разжаловал" его в лейтенанты, отнеся пленение к 1667 г.5. И.В. Щеглов называл Бейтона служилым немцем, присланным в Сибирь для устройства регулярного войска6. Наконец, некоторые историки (Ю. Бартенев, Д. Резун) предпочитали не конкретизировать национальность Бейтона, относя его к категории так называемых "немцев", т.е. использовали термин, которым в XVII в. в России обозначали всех выходцев из Западной Европы вообще7. Бросается в глаза то обстоятельство, что в подтверждение своих версий никто из упомянутых исследователей не смог привести ссылки на источники, заслуживающие доверия. Зачастую вообще непонятно, на основании чего они строили свои предположения. И если данное обстоятельство историкам XIX в. еще можно простить, то историкам XX в., безусловно, нет, поскольку в начале этого столетия из архивных дел Сибирского приказа уже были извлечены сведения, проливающие свет на биографию Бейтона. Речь идет о находке известного архивиста Н.Н. Оглоблина, который среди дел посольства Ф.А. Головина обнаружил челобитную Бейтона с кратким изложением обстоятельств его появления и службы в России8. Эту челобитную Оглоблин аннотировал в 3-й части своего "Обозрения столбцов и книг Сибирского приказа"9. Позднее о ней упоминал А.И. Андреев10, а ее содержание было изложено в комментариях ко 2-му тому "Русско-китайских отношений в XVII веке"11 и использовано В.А. Александровым в краткой биографической справке о Бейтоне в монографии, посвященной международным отношениям на Дальнем Востоке12. Из этой челобитной следует, что Бейтон выехал на русскую службу "во 162 году" "из Прузского государства" "в чину капитанском и порутчиком" и послан был "ис под Смоленска служить в полк боярина и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкого"13. Эти сведения полностью подтверждаются и дополняются двумя другими архивными находками. Первая из них – это выявленный мной в делах Сибирского приказа перевод письма Бейтона, отправленного им 23 июля 1697 г. из Иркутска в Москву на имя думного дьяка А.А. Виниуса. Оригинал был написан по-немецки, но обнаружить его не удалось. Да и перевод на русский язык дошел лишь частично – только первый и два последних листа. Сколько текста оказалось утеряно, непонятно. Но и то, что сохранилось, дает дополнительные сведения к биографии нашего героя. В частности, он поведал следующее: "Я его царскому величеству больши сорока лет служил, даже со штидесят втораго, как его царского величества под Смоленском был со многими бояры и вельможи многи полками, и во многих осадах сидел"14. Вторая находка – это обнаруженная М.О. Акишиным в следственном деле 1719 г. сына А.И. Бейтона Якова краткая информация, составленная им о службе отца15. Яков между прочим сообщил, что "отец ево был родом Пруского государства, был чином порутчик и ис того государства вышел он к Москве своею волею во 162 году и служил во всех в Литву походех"16. Таким образом, все три документа утверждают, что Афанасий Бейтон был родом из Пруссии*. Его вербовка на русскую службу произошла в 7162 г. При переводе на современное летоисчисление остановиться скорее всего следует на 1654 г., поскольку именно в это время начались русско-польская война и вместе с этим массовый наем иностранных военных. Из упомянутой челобитной видно, что русская служба Бейтона началась под Смоленском, затем он участвовал в боях под Шкловом, Быховом, Слуцком, Ригой, Мстиславлем, сидел в осаде в Могилеве. Участие Бейтона в русско-польской войне 1654–1667 гг. чрезвычайно важно для понимания его последующей роли в обороне Албазина, поскольку несомненно, что, будучи офицером, он приобрел немалый боевой опыт в этой войне. К тому же можно предположить, что и до поступления в русскую службу Бейтон был знаком с премудростями ратного строя. Несомненно, он уже имел какой-то офицерский чин (иначе его бы в России не "поверстали" сразу в "чин капитанский и порутчиком"). А раз он был офицером и служил где-то в Европе, то, значит, ему неизбежно пришлось принимать участие в Тридцатилетней войне. Вероятно, после ее окончания Бейтон, как и многие другие профессиональные наемники, остался не у дел и двинулся на службу к московскому царю, лишь только на востоке Европы заполыхало пламя новой войны. Гораздо сложнее установить настоящую фамилию нашего героя. В русских источниках, современных Бейтону, встречается несколько ее вариантов: Бойтон, Байтон, Фанбейтон (фон Бейтон), Бейдон, Байдон, Бойдон17. Позднее, в XVIII–XIX вв., в документах и исторических исследованиях утвердилось написание "Бейтон", которое принято и в современной литературе. Однако оно не бесспорно. Дело в том, что сам Бейтон, уже будучи на русской службе, подписывался следующим образом: "Afonasse Beithon"18. Если предположить, что он писал свою фамилию по-немецки, то в переводе на русский она будет звучат как Байтон. Если же считать, что он писал русский текст латинскими буквами, тогда – Бейтон. Первый вариант кажется предпочтительнее, ибо сомнительно, чтобы Бейтон не знал, как по-немецки пишется его собственная фамилия. Но нельзя исключить и то обстоятельство, что в XVII в. и по-немецки звучание и написание фамилии "Бейтон" могло быть неустойчивым. В пользу этого, в частности, свидетельствует разнобой в переводах фамилии на русский язык: писцы фиксировали ее так, как слышали. В любом случае проблема есть, и окончательное решить ее могут только специалисты по антропонимике – знатоки немецких фамилий. Существенную помощь им, конечно, оказали бы связанные с Бейтоном документы из архивов бывшей Пруссии. Возможно, удалось бы установить и первое (немецкое) имя Бейтона, которое в русских источниках пока не обнаружено (вряд ли при рождении ему дали русское имя Афанасий). Несомненно только то, что к началу XVIII в. русская транскрипция твердо остановилась на варианте "Бейтон". Этого варианта буду придерживаться и я, по крайней мере, до внесения полной ясности с немецким звучанием и написанием этой фамилии. Еще до окончания русско-польской войны Бейтона перевели в Томск. Это было время, когда центральные и сибирские власти предпринимали усилия по созданию в Сибири полков нового строя и с этой целью командировали туда несколько десятков офицеров из числа иностранных наемников19. В Томске Бейтон оказался в первой половине 1660-х гг., как сам писал, "при бывшем воеводе Иване Васильевиче Бутурлине"20, который воеводствовал там в 1659/60 – 1664/65 гг.21. В городовом сметном списке Томска за 7173 г. (1664/65) он значился поручиком22. Наряду с другими иностранными офицерами, посланными в Томск (Л. Бондодом, А. Дабином, О. фон Менкиным, Х. Рыхтером, Я. ван дер Гейденом, Я. Шнеером, И. Людерсоном и др.), он должен был обучать местных служилых людей солдатскому строю. В Томске Бейтон женился (это произошло до 1665 г.23). Кто была его избранница, не известно. Но именно женитьба коренным образом изменила судьбу Бейтона, поскольку, согласно тогдашним российским законам, он должен был перейти в православие и принять русское подданство. Вероятно, в связи с этим его "по указу великих государей" "со всем домишком взяли к Москве". Но в столице Бейтон по какой-то причине не усидел и по собственной просьбе был отправлен в Енисейск с поверстанием в дети боярские24. В результате этого служебный статус Бейтона изменился: из иностранного наемника, связанного с Россией контрактом о службе, он превратился в обычного русского служилого человека, обязанного отныне пожизненной службой новому отечеству. Дата повторного прибытия Бейтона в Сибирь неизвестна, но в окладной книге Енисейска 1680/81 г. он записан сыном боярским с годовым окладом жалованья в 12 руб., 12 четвертей ржи, 10 четвертей овса и 3 пуда соли25. В Томске и Енисейске Бейтону пришлось участвовать в обороне русских владений от многочисленных набегов джунгар и енисейских киргизов. Большой боевой опыт, бывший за плечами Бейтона, видимо, предопределил его назначение на должность командира полка, отправленного на Амур для защиты русских владений от маньчжуров, которые, захватив Китай, в начале 1680-х гг. резко активизировали враждебные действия против России, стремясь вытеснить русских из Приамурья. Шестисотенный полк, которым предстояло командовать Бейтону, был сформирован в Тобольске к весне 1684 г. из сибирских казаков, их родственников, а также представителей посадских и крестьянских низов и гулящих людей из городов Тобольского разряда (Тобольска, Туринска, Верхотурья, Тюмени)26. Эти новоприборные казаки "прославились" тем, что по дороге от Тобольска до Енисейска, недовольные плохим казенным снабжением, вышли из под контроля воеводской администрации и своих начальных людей, завели "воровские" казачьи круги и занялись грабежами (захватывали имущество воевод, торговых людей, избивали приказчиков). Подойдя к Енисейску в конце августа 1684 г., они вступили в конфликт с местным воеводой К. Щербатовым, который чуть было не закончился вооруженным столкновением между новоприборными и енисейцами. В конце концов воевода удовлетворил требование казаков: выдал им хлебное жалованье, дощаники и судовые припасы для дальнейшего следования, а в начальные люди к ним (казачьим головой) назначил енисейского сына боярского Афанасия Бейтона27. Приняв командование бунтующими казаками, Бейтон, судя по всему, не вводил никаких решительных мер для пресечения казачьего своевольства. Выступив из Енисейска в начале сентября 1684 г., казаки по пути в Иркутск продолжали заниматься грабежами. Афанасий Бейтон "оборони на них и никакой расправы" дать не мог, потому что новоприборные ему "были непослужны"28. Попытка навести порядок неизбежно закончилась бы для Бейтона расправой со стороны казаков. Своевольство казаков и плохая организация их переброски на восток сильно замедлили движение полка. Только ранней весной 1685 г. ему удалось выйти в Забайкалье, причем из-за проблем с транспортировкой по дороге пришлось оставить (на р. Ангаре) артиллерию и значительную часть боеприпасов и другого снаряжения29. Серьезная задержка произошла под Удинским острогом, куда прибыли на "страстную неделю" (между 13 и 18 апреля). Здесь монголы угнали быков и лошадей, предназначавшихся для перевозки военного снаряжения. Казаки бросились в погоню. Бейтон пытался было их остановить, поскольку надо было быстрее двигаться дальше, но безуспешно. Поход в степь оказался удачным: казаки вернули часть лошадей, прихватив заодно у монголов полторы сотни голов рогатого скота и тысячную отару овец. Однако из-за этого полк задержался под Удинском на целый месяц30. В результате к пункту своего назначения – Албазину – он не успел подойти до того, как началась первая осада маньчжурами этой крепости (10 июня 1685 г.), закончившаяся ее капитуляцией. 9 июля 1685 г. полк Бейтона явился в Нерчинск, несколько позднее туда подвезли оставленные на р. Ангаре пушки и боеприпасы. 10 июля в Нерчинск пришли оставшиеся в живых албазинцы во главе со своим командиром тобольским сыном боярским Алексеем Ларионовичем Толбузиным31. Вслед за этим нерчинский воевода И.Е. Власов, получив известие об уходе маньчжуров из-под Албазина, принял решение вновь занять Албазин, чтобы "не потерять... Даурской земли"32. Повторное занятие Даурской земли (Верхнего Амура) закончилось новым вооруженным столкновением с маньчжурами и второй, на этот раз пятимесячной, обороной Албазина. Останавливаться на этих событиях подробно нет смысла, поскольку они обстоятельно описаны в исторической литературе. Но в соответствии с замыслом статьи выделю ту роль, которую сыграл в обороне Приамурья Афанасий Бейтон. А роль его оказалась самой решающей. Нерчинский воевода определил его помощником Толбузина и первым во главе отряда из 198 человек 1 августа 1685 г. выслал на место сожженного Албазина. Согласно указаниям воеводы Бейтон должен был "оберегать" хлебные поля под Албазином и начать восстановление крепости. Прибыв на место 10 августа, казаки под руководством Бейтона проделали большую работу по заготовке продовольствия. 27 августа (по другим сведениям 1 сентября) подошел Толбузин с основными силами (316 чел.)33. К лету 1686 г. почти полностью была возведена новая крепость. По наблюдениям археолога А.Р. Артемьева, она была построена с учетом достижений европейского фортификационного искусства, ориентированного на укрепления бастионного типа34. Бастионные укрепления по четырем сторонам крепости хорошо видны и на рисунке, изображающем осаду Албазина в книге Н. Витсена "Северная и Восточная Татария"35. Данное обстоятельство наталкивает на мысль, что немалую роль в планировании и строительстве крепости сыграл Бейтон, бывший в гарнизоне Албазина единственным человеком, не понаслышке знакомым с западно-европейской фортификацией. Известный писатель С.В. Максимов, бывший на Амуре в 1850-х гг., прямо приписывал Бейтону строительство последних албазинских укреплений36. Вероятно, его утверждение основывалось на преданиях, услышанных от амурских казаков. Осенью 1685 и весной 1686 г. Толбузин поручал Бейтону ответственные задания: вести разведку и отражать нападения маньчжуров. Всякий раз, когда "отъезжие караулы" сообщали о появлении неприятеля, ему навстречу высылались под командой казачьего головы кавалерийские отряды. Как позднее вспоминал сам Бейтон, "хотели богдойцы воинские люди ко Албазину подъезжать, а я... с ратными людьми поиски над ними чинил и бои с ними были непрестанно". Не всегда удавалось нагнать маньчжурскую конницу, но когда врага все же настигали, победа доставалась русским. Под командованием Бейтона казаки побили маньчжуров в ноябре 1685 г. у Монастырской заимки и в марте 1686 г. на р. Кумаре37. Наиболее полно талант Бейтона как военачальника раскрылся во время обороны Албазина с 7 июля 1686 г. по 30 августа 1687 г. от 5-тысячной, а затем 10-тысячной маньчжурской армии, которой противостояло всего 826 защитников. Уже в первые часы осады он продемонстрировал свое умение вести бой против превосходящих сил противника, когда по приказу Толбузина во главе части защитников атаковал неприятеля в момент его высадки с судов на берег. Атака был столь напористой, что среди маньчжуров началась паника, и их командующему Лантаню пришлось лично наводить порядок в своих войсках. 9–12 июля русские вновь пытались сбросить противника в Амур38. На пятый день боев (11 июля) Толбузин был тяжело ранен вражеским ядром ("отшибло правую ногу по колено") и через четыре дня скончался39. Командование крепостью и гарнизоном принял Бейтон. Ситуация складывалась критическая. Было ясно, что собственными силами отбить маньчжуров не удастся. Бейтон неоднократно обращался к нерчинскому воеводе Власову и полномочному послу на переговорах с маньчжурским Китаем Ф.А. Головину с просьбой о подкреплении: "Дай, государь, помощи и прибавочных людей, буде возможно". Но военные силы России в Забайкалье были крайне малочисленны. Как писал Власов Головину, "за конечным малолюдством не токмо на выручку Албазина, и от мунгальских людей оборонитца неким"40. Оставалось надеяться на Бога да на собственное мужество и ратное мастерство. В июле, сентябре и октябре маньчжуры пытались взять крепость штурмом. Но умелое командование Бейтона и отчаянная храбрость защитников срывали все эти попытки. Более того, до октября 1686 г. гарнизон сам пять раз делал вылазки в стан врага. "И против воинских неприятельских вымыслах и жестокого приступа за помочью Божиею вашим, великих государей, счастием с теми ратными людми стояли и бились не щедя голов своих подкопами и всякими боями и часто на выласку и на приступ к ним к роскатом ходили и языков имали и нужу и всякой голод и холод терпели и на их ласковые слова и прелестные листы не здавались"41. По некоторым сведениям, только в октябрьских боях цинская армия потеряла до 1500 солдат. Таяли и ряды оборонявшихся, причем гибли не столько в боях, сколько от начавшейся цинги. К концу 1686 г. стал ощущаться недостаток в воде, топливе и противоцинготных средствах. К декабрю в живых осталось всего 150 "осадных сидельцев", да и "те все оцынжали", так что караулы в крепости могли держать не более 30 ратных людей и около 15 "подросков"42. Заболел и сам Бейтон. Израненный и больной, он выходил на костылях командовать остатками гарнизона. Побывавший в январе 1687 г. в Албазине маньчжурский офицер сообщил своему начальству, что "старшина русских" Бейтон "опасно болен, а прочие, которых осталось [всего] 20 с лишним человек, также нездоровы"43. "Сколько побито и померло... – с болью писал сам Бейтон нерчинскому воеводе, – странное время было: друг друга не видали, и кто поздоровеет раненные и кто умрет, не знали, потому что скудость во всем стала... Пили мы с покойным одну кровавую чашу, с Алексеем Ларионовичем, и он выбрал себе радость небесную, а нас оставил в печали, и видим себе всегда час гробный..."44. Положение на самом деле было просто отчаянное. Несколько десятков полубольных защитников не смогли бы при очередном штурме остановить несколько тысяч маньчжуров. Но тут в первых числах декабря 1686 г. пришло известие о заключении перемирия между Россией и Цинским Китаем, в связи с чем боевые действия приостанавливались. Албазинцы могли вздохнуть свободно. Вряд ли они догадывались, что именно их самоотверженность вынудила цинский двор во время переговоров с российскими представителями Н. Венюковым и И. Фаворовым дать согласие на отвод своих войск из-под Албазина до устья Зеи. Затянувшаяся осада поставила маньчжурскую армию, не готовую к длительным боевым действиям и понесшую большие потери, в крайне тяжелое положение45. В результате заключенного перемирия осада была снята, однако маньчжуры продолжали держать крепость в блокаде. И в том, и в другом лагере положение оставалось крайне сложным. В Албазине царила цинга, а в маньчжурском стане – голод. От "хлебной скудости" среди осаждающих начался даже мор. По преданию, в начале мая 1687 г. маньчжурские военачальники предложили Бейтону услуги своих врачей и лекарства, но он отказался от помощи и, в свою очередь, послал во вражеский стан пирог весом в пуд. По мнению В.А. Александрова, это предание, возможно, отражало реальный факт, так как хлебных запасов в крепости к снятию осады оставалось до тысячи пудов46. А если так, то можно признать Бейтона человеком, обладавшем и достоинством, и хитростью. Такой поступок позволял ему скрыть бедственное состояние гарнизона. 6 мая неприятельская армия отступила от города на 4 версты, а 30 августа 1687 г. ушла из-под Албазина, оставив, однако, около крепости свои посты и разъезды, которые продолжали держать ее фактически в блокаде, пропуская только "малых людей" с продовольствием. Периодически маньчжуры угоняли скот, убивали отдалявшихся от крепости казаков, дважды, 11 июля 1688 г. и 21 августа 1689 г., сожгли весь посеянный албазинцами хлеб47. Бейтону все время приходилось быть начеку, чтобы, с одной стороны, вовремя организовать оборону, а с другой – не допустить нового вооруженного столкновения. Посланная ему от нерчинского воеводы память от 11 августа 1688 г. гласила: "в Олбазине жить от неприятельских людей со всякою осторожностию. И посылать бы тебе служилых людей в подъезды почасту, и проведывать вниз по Амур-реке неприятельских богдойских воинских людей, и в ыных причинных местех мунгальских людей и иных воровских иноземцов потому ж проведывать всякими мерами, и над городом и над служилыми людьми смотреть накрепко, чтоб над городом и над служилыми людьми, пришед тайно, какова дурна не учинили"48. Принимая во внимание, что в то время в гарнизоне насчитывалось всего около 100 казаков, да примерно столько же было в крепости и окрестностях промышленных людей и крестьян49, можно понять, в каком сложном положении находился Бейтон, опасаясь в любой момент нападения маньчжуров. Видимо, в это время среди албазинцев стали проявляться панические настроения, вызванные непониманием политики властей: и подкрепления не посылают, и уйти не позволяют. У них вполне могло появиться опасение, что их бросили на произвол судьбы. В августе 1688 г. Бейтон, в частности, писал в Нерчинск Власову: "Наперво, нас Бог помиловал, что мы только живы остались. Разорены до основания и голодны и володны стали... А ныне живем в Албазине с великим опасением. Голодны и володны, пить, есть нечего, казну великих государей оберегать неведомо как. Просится всяк и мучаетца, чтоб отпустил в Нерчинск... Казакам зело струдно и мнительно, что указу к нам от окольничего и воеводы Федора Алексеевича не бывало. И я их розговариваю государьским милостивым словом"50 . Бейтон удерживал казаков от бегства в Нерчинск, хотя сам, судя по его донесениям, пришел уже в полное отчаяние: "Служу вам, великим государям, холоп ваш, в дальней вашей заочной Даурской украйне, в Албазине, в томной, голодной, смертной осаде сидел, и от прежних ран и осадного многотерпения холоп ваш захворал, и устарел, и помираю томною, голодною смертию, питаться нечем. Цари государи, смилуйтеся"51. Даже если принять во внимание традиционное для челобитных XVII в. преувеличение тягот службы и страданий, вряд ли можно сомневаться, что Бейтон желал поскорее вырваться из Албазина. Слишком уж много он там претерпел. Желание вскоре сбылось. 29 августа 1689 г. был подписан Нерчинский договор, согласно которому Россия уступала Амур Цинскому Китаю. Буквально через два дня, 31 августа, Ф.А. Головин направил Бейтону в Албазин указную память (получена 8 сентября) с предписанием, "собрав всех служилых людей, сказав им о том указ великих государей, и город Албазин разорить, и вал раскопать без остатку, и всякие воинские припасы (пушки, и зелье, и свинец, и мелкое ружье, и гранатную пушку, и гранатные ядра), и хлебные всякие припасы, и печать албазинскую взяв с собою, и служилых людей з женами и з детьми и со всеми их животы вывесть в Нерчинской. А строение деревянное, которое есть в Албазине, велеть зжечь, чтоб никакова прибежища не осталось... И разоря Албазин, со всеми воинскими припасы и хлебными запасы в Нерчинск вытти нынешним водяным путем"52. 5 сентября к Албазину прибыло возвращавшееся с переговоров маньчжурское посольство. Под его бдительным присмотром казаки, начиная с 9 сентября 1689 г., стали разрушать крепость, и сломали и сожгли все за три дня. Маньчжуры были настолько обрадованы этим, что щедро одарили Бейтона подарками53. Сжигая крепость, казаки так постарались, что уже в наши дни археологи с большим трудом обнаружили ее остатки54. 8 октября 1689 г. Бейтон сообщил вышестоящему начальству, что Албазин разрушен, и отправился в Нерчинск55. На этом закончился самый героический период его жизни. Оборона Албазина по праву занимает почетное место в истории русской военной славы и принадлежит к числу выдающихся и значимых событий, определявших ход российской истории. Если бы албазинцы в 1686–1687 гг. не выдержали осаду и сдали крепость, результаты русско-маньчжурских переговоров могли бы быть гораздо хуже для России. Мужество и героизм восьми сотен безвестных казаков, крестьян и промышленных людей, насмерть стоявших на защите российских рубежей, позволили Ф.А. Головину существенно умерить территориальные притязания маньчжуров, которые, как известно, претендовали чуть ли не на всю Восточную Сибирь. А успех обороны Албазина во многом был обеспечен Афанасием Бейтоном. Конечно, приписывать исключительно ему все лавры умелого командования неверно. Памятуя о том, что в Сибири XVII в. были очень сильны традиции казачьего самоуправления, можно смело утверждать, что и в Албазине, имевшем с момента основания собственный опыт "казачьей республики", во время осады все принципиальные вопросы обсуждались и решались на казачьем круге. Однако это не умаляет роли Бейтона: профессиональный военный, имевший за плечами большой боевой опыт и не лишенный личного мужества, он оказался хорошим военачальником, сумевшим в достаточно сложной обстановке грамотно и умело руководить обороной крепости. Прибыв в Нерчинск, Бейтон подал челобитную, отметив, как полагалось, свои "страдания" ("а ныне я, холоп ваш, увечен и ранен, живу в Нерчинску, помираю голодной смертью"), он попросил прикомандировать его к Ф.А. Головину: "пожалуйте меня, холопа вашего, велите, государи, меня, холопа вашего, за мою службишку, и за раны, и за увечья, и за осадное сидение отпустить в полк к окольничему"56. Одновременно он ходатайствовал о своем производстве в полковники и просил "отпустить к Москве"57. На этом ходатайстве стоит остановиться особо, так как оно интересно для уточнения соотношения чинов, званий и должностей в тогдашней России. Бейтон еще с 1685 г. являлся казачьим головой – был назначен командиром полка. Как казачий голова он фигурировал в документах после 1685 г.58. А голова (стрелецкий, казачий) в служилой иерархии XVII в. соответствовал чину полковника, хотя это и не чин собственно, а должность. На должности голов (командиров полков и крупных гарнизонов) назначались служилые люди по отечеству (столичные и провинциальные дворяне и дети боярские). Так что Бейтон, будучи казачьим головой, занимал полковничью должность. Чин же у него оставался прежний – сын боярский. При этом находящийся под его командой воинский контингент, несмотря на значительное сокращение своего состава, и после осады продолжал именоваться полком59. Бейтон же в своей челобитной указывал на то, что при отправке из Енисейска был назначен "в место полковника, а чином их не поверстан и против их чину не пожалован", и просил именно чин полковника. Однако таковой имелся только в полках нового строя (солдатских, драгунских, рейтарских) и реформируемых на их манер московских стрелецких полках и, соответственно, присваивался офицерам этих полков. Чин полковника сохраняли за собой и иностранные офицеры, если они имели его на момент поступления на русскую службу. Бейтон, вероятно, не разобрался в российской служилой иерархии и, командуя полком, считал себя вправе требовать соответствующий чин. Однако, являясь служилым человеком "старых служб", претендовать на чин полковника он никак не мог. И в ходатайстве ему, судя по всему, было отказано, так как в последующие годы ни в одном известном мне официальном документе он не упоминается как полковник. Тем не менее к Ф.А. Головину его прикомандировали, и он вместе с посольством в мае 1690 г. отбыл из Иркутска на запад. В сентябре 1690 г. Головин отправил Бейтона из Тобольска с отписками в Москву60. Скорее всего, с этим путешествием связано появление на свет одной из ранних карт Амура. Эта карта наличествует в "Хорографической чертежной книге" С.У. Ремезова под заглавием: "Свидетельство даурского полковника Афонасья Иванова сына Байдона". Исследователи по-разному датируют ее. Л.С. Багров называл сначала 1690 г., затем 1687 г., М.И. Белов указывал на 1690 г. А.И. Андреев, отказавшись от точной датировки, считал, что чертеж составлен после 1689 г.61. Как представляется, можно уверенно остановиться на 1690 г., поскольку именно тогда Бейтон посетил Тобольск, где наверняка встретился с Ремезовым. Последний, будучи человеком любознательным, никогда не пропускал мимо себя людей, которые могли сообщить что-то интересное. Бейтон – герой Албазинской обороны – являл для Ремезова, несомненно, очень ценный источник информации, на основании которой Ремезов и составил карту, озаглавив ее совершенно правильно: "свидетельство", т.е. сведения, полученные от "свидетеля". Отсутствие необходимых источников не позволяет говорить о том, что делал Бейтон в Москве и какие проблемы пытался там решать. Но вскоре его вновь отправили в Сибирь, вероятно, в Иркутск. Сын Яков по этому поводу позднее вспоминал, что отец его "служил в Иркуцку казачьим же головою по наряду из разряду Московского в 200 (1691/92) году"62. В 1695 г. мы встречаем его по-прежнему в должности казачьего головы, служащим в Иркутском уезде. В памяти иркутского воеводы А.Т. Савелова приказчику Идинского острога казачьему пятидесятнику Ф.Н. Черниговскому сообщалось о том, что в мае 1695 г. из Иркутска в Идинск за хлебными запасами отправлен А.И. Бейтон с отрядом служилых людей. При этом воевода указывал, чтобы Афанасию по его челобитной разрешили пожить в Идинске: "и как к тебе ся память придет – Афонасей Бейтон в Ыдинской острог припловет, и тебе ему, Афанасью, в Ыдинску жить велеть и отвесть ему постоялой двор, где пригоже... а что ему, Афонасю, доведетца взять долгов на руских всяких чинов на людях и на пашенных крестьянах и на иноземцах кабалных и бескабалных, и тебе б ево челобитья на тех людей не запиратца, править и отдавать ему, Афонасю, с роспискою"63. Замечание весьма любопытно, ибо показывает, что Бейтон уже вполне освоился с нормами российской жизни и не гнушался, как и многие другие служилые люди, приторговывать и заниматься ростовщичеством. То, что Бейтон усвоил привычки сибирских управителей, подтверждается и другим документом того же 1695 г. – челобитной П. Арсеньева. Этот селенгинский сын боярский жаловался иркутскому воеводе, обвиняя Бейтона в вымогательстве: он якобы взял у Арсеньева "подстав" камки, 100 пудов муки ржаной, четыре "дести" бумаги, поварню, чаны и "всякий поваренный завод". Оправдываясь, Бейтон в ответной челобитной писал воеводе: "И я у него толко взял подстав камки мерою 13 аршин, да он же, Петр, дал мне в честь, а не в заем и не в цену и не в отдачю полста пуд муки ржаной, а не сто пуд, а бумаги у него толко взято в казну листов пять - шесть... и поварнею он, Петр, мне поступился ж, а на поварне толко одно малое чанишко да малая кадочка, а болши того никаково повареного заводу не было. И то он, Петр, бил челом великим государям на меня ложно..."64. Сейчас уже не выяснить, насколько верны были обвинения против казачьего головы. Но, в принципе, дело для XVII в. обычное: подчиненный дает "почесть", начальник вымогает еще больше, в результате возникает конфликт и взаимные обвинения растут, как снежный ком. В 1696 г. Бейтон в Иркутске становится не только свидетелем, но и участником событий, связанных с восстанием забайкальских казаков. Когда в июле этого года восставшие "приступили" к Иркутску, воевода Савелов посылал его к ним для переговоров. Сей факт может свидетельствовать в пользу того, что Бейтон после Албазина пользовался большим авторитетом в казачьей среде, и воевода рассчитывал, что ему удастся уговорить забайкальцев прекратить бунт. По словам одного из руководителей восстания, Антона Березовского, Бейтон якобы говорил казакам, "чтобы они от города шли прочь, а если не пойдут, и на них де в городе затравлена пушка"65. Выполнить "миротворческую" миссию Бейтону, однако ж, не удалось, так как казаки не поддались на его уговоры и угрозы. После ухода забайкальцев из-под Иркутска Бейтон был отправлен приказчиком в Верхоленский острог, куда явился 3 сентября 1696 г.66 В следующем году, в июле 1697-го, казачий голова, судя по его письму к начальнику Сибирского приказа А. Виниусу, крепко повздорил с Савеловым. Если верить Бейтону, дело дошло до рукоприкладства со стороны воеводы: "насилу жив остался, ибо он меня руками и ногами мало не до смерти убил". Причину конфликта Бейтон не разъяснил, оговорившись только, что сказал воеводе "правду". Все письмо, если опустить пышное и весьма витиеватое "нижайшее" обращение к Виниусу, посвящено обвинению иркутского воеводы в казнокрадстве и разорении народа: "казну его царского величества разоряют и весь народ во упадение приводят, милость никакову к ним не явят, токмо выдумывают брать, грабит всяк в свою мошну, как сей знатный господин стольник Афонасей Савелов"67. Отсутствие дополнительных документов, проливающих свет на конфликт, не позволяет даже предположить, в чем же заключалась "правда" Бейтона. Однако, учитывая упоминавшиеся выше факты "стяжательства" Бейтона и царившие в среде сибирских администраторов нравы, можно подумать, что он был скорее не борцом за справедливость, который не побоялся усовестить воеводу, а соучастником воеводских лихоимств, повздорившим с воеводой из-за дележа добычи. Конфликт не получил продолжения, так как Бейтона по распоряжению Сибирского приказа отбыл в Забайкалье казачьим головой в Удинский острог. Когда это случилось? Н.Н. Оглоблин ссылался на наказ 206 (1697/98) г.68, Г.А. Леонтьева называла 1697 г.69, а П.В. Шумахер – 1698 г.70 Обнаруженный мной черновик наказной памяти Сибирского приказа (без начала и конца) по поводу назначения Бейтона датирован 1696 г.71 Учитывая преклонный возраст Бейтона, в помощники к нему ("в товарыщи") "для старости его и многих служб" определили его сына Андрея. Данный факт Оглоблин считал исключительным для административной практики тех лет72. На самом деле оно, конечно, не так. К концу XVII в. уже вполне была апробирована практика назначения в один и тот же город близких родственников: старшего – начальником, младшего – товарищем73. Не правы были и В.А. Александров и Н.Н. Покровский, которые на основании грамоты о назначении Бейтона казачьим головой в Удинск сочли, что он должен был одновременно и "ведать" этот острог74, т.е. исполнять обязанности приказчика. Приказчиком Удинска к 1696 г. уже являлся как раз Андрей Афанасьевич Бейтон75. Определение его "товарищем" к отцу означало, что он становился помощником казачьего головы – командира удинского гарнизона. Вероятно, с назначением в Удинский острог связано и повышение Бейтона в 1697 г. в чине – его произвели в дворяне московского списка76, тем самым формально он был причислен к элите российского общества. Но насладиться преимуществами своего нового статуса Бейтон не успел, ибо вскоре скончался. Известия о дате его смерти противоречивы. Согласно официальным документам – "Хлебной и соляной расходной книге" по Иркутску за 1701 г.77 и окладной книге жалованья по Иркутску за 1708 г.78, – "казачий голова и московского списка дворянин" Бейтон "умре в 209-м году", т. е. в 1701/02 г. Однако сын его Яков в 1719 г. сообщил, что отец умер в 207-м (1698/99) г.79 Неизвестны, к сожалению, ни место захоронения Бейтона, ни его возраст. В.А. Александров предположил, что лет под 60 ему было к началу албазинской обороны80, а значит, прожил он чуть более семидесяти. Отметим парадокс: Бейтона после его отбытия на даурскую службу продолжали фиксировать (в окладных книгах жалованья по Енисейску в списке детей боярских, причем даже тогда, когда он уже давно умер. Последняя такая запись обнаружена мной в окладной книге за 1711 г. В книгах исправно отмечали положенное Бейтону жалованье (в начале XVIII в. 12 руб., 6 четей ржи, 5 четей овса, 3 пуда соли), правда, с припиской: "в прошлых годех умре"81. Одновременно Бейтона некоторое время после его смерти исправно вносили в окладные книги по Иркутску, но уже как казачьего голову и дворянина московского списка. С чем связана такая "двойная бухгалтерия", трудно сказать. Вряд ли Бейтона, выражаясь современным языком, за его заслуги "навечно зачислили в списки части". Скорее, это результат приказной неразберихи. Уйдя из жизни, Бейтон оставил в Сибири четырех сыновей, которые заняли достаточно видные места в служилой иерархии и аппарате управления Восточной Сибири. Андрей и Яков достигли чина московского дворянина. Первый в конце XVII–начале XVIII в. исполнял обязанности приказчика Удинского острога и казачьего головы, второй в первой четверти XVIII в. был приказчиком в острогах Балаганском, Бельском, Селенгинском, воеводой в Иркутске и Нерчинске. Два других сына, Иван и Федор, смогли выслужить чин сибирского дворянина (по иркутскому списку). Федор в 1720-х гг. служил удинским и селенгинским комиссаром, занимался картографией (сочинил "Карту мест от реки Енисея до Камчатки лежащих" и ландкарту пограничных мест Селенгинского дистрикта). Иван известен тем, что был женат на дочери сосланного в Забайкалье бывшего украинского гетмана Демьяна Многогрешного, которую звали то ли Еленой, то ли Марией. Все четыре сына принимали активное участие в подготовке и обеспечении переговоров С.Л. Владиславича-Рагузинского с китайцами в середине 1720-х гг. От этих сыновей Афанасия и потянулись ветви рода Бейтона. В документах XVIII – начала XIX в. можно встретить многих представителей династии. Одни из них по-прежнему оставались в рядах служилых людей и чиновников, другие оказались в составе разночинцев и посадских. Память о Бейтонах запечатлелась в названиях ряда географических объектов. Еще в первой половине XIX в. в Прибайкалье и Забайкалье встречались деревня Тимофея Бейтона (в 22 верстах от Балаганского острога), заимка Бейтонова, Бейтонова деревня (на берегу Ангары), Бейтонова речка (левый приток Ангары), Бейтонов луг (недалеко от Верхнеудинска). Однако в дальнейшем династия Бейтонов сходит со сцены активной административной жизни и растворяется в массе сибирских фамилий. Равным образом и герой албазинской обороны Афанасий Бейтон становится неприметной фигурой сибирской истории. Возьмите в руки энциклопедии, изданные в XX в., и вы не найдете о нем ни одной строчки. Даже в новейших "Очерках по истории Приморья" на страницах, описывающих проникновение русских в Приамурье и их борьбу с маньчжурами, о Бейтоне нет ни слова82. Он оказался подобен метеориту, который вспыхнув яркой звездой, быстро погас. Ни до, ни после Албазина он не играл никакой заметной роли. Но уже одного его умелого руководства героической албазинской обороной, спутавшей все карты цинских стратегов, достаточно, чтобы быть вписанным в скрижали российской истории и занять достойное место среди тех, кто принес славу русскому оружию. Хотелось бы надеяться, что эта статья привлечет внимание исследователей к поиску новых материалов о Бейтоне. Он этого достоин! |
|
|
|
 7.3.2010, 6:14 7.3.2010, 6:14
Сообщение
#63
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Н.А. Захаров
Добыча золота на приисках Олекминской тайги (по материалам еженедельного иллюстрированного журнала «ЗАРЯ», 23 ноября, 1915 г.) Финансовая помощь государства является одним из главных условий победы над врагом. Чем больше у государства золота, тем большими услугами оно может пользоваться со стороны нейтральных держав, тем обеспеченнее его кредитные операции, как в нем самом, так и вне его. Учитывая это значение золота, как одного из факторов победы, воюющие государства тотчас же за объявлением войны приняли все меры к тому, чтобы накопить, насколько возможно, большую «золотую наличность». Одни государства, как пример, Германия, объявили, под угрозой уголовной кары, принудительную сдачу золота в государственные кассы, другие, как, например, Франция и Россия, обратились с воззваниями к чувству патриотизма своих граждан, убеждая их сдавать государству имеющееся у них золото, назначая премии за сданное золото или давая некоторые преимущества лицам, платящим в казну золотыми монетами. Помимо этих мер, всеми государствами запрещен вывоз золота за границу частными лицами. Россия, помимо вышеуказанных способов накопления золота, имеет еще один, дающий ей громадное превосходство перед Австро-Венгрией и Германией – это возможность пополнения золотого фонда золотом, добываемым на отечественных золотых приисках. Россия владеет богатейшими в мире золотыми приисками. Мы имеем золото на Урале, на Алтае, на Саянском хребте, в Томской губернии, на Амуре, Лене и многих других местах необъятной России. До войны в России добывалось до 10% всего добываемого в мире золота. С начала войны были приняты меры к увеличению добычи золота и теперь, после года войны, мы видим, что количество добытого во время войны золота намного превышает добычу за то же время в прошлые годы. Старатель-хищник за промывкой золота в лотке. Этим летом я посетил золотые прииски Олекминско-Витимского Горного Округа; своими впечатлениями от путешествия я и хочу поделиться в этой статье. Золотые прииски Олекминско-Витимского Горного Округа расположены в Ленской тайге, на самом севере Иркутской губернии, и на юге Якутской области, между реками Витимом, Леной и Олекмой. 4 мая я выехал из Москвы и лишь 29 приехал в г. Бодайбо – эту столицу приисков. От Иркутска до Бодайбо 1800 верст, из которых 410 – от Иркутска до Жигаловой приходится ехать на почтовых, от Жигаловой до Бодайбо – 1400 верст на пароходах. Летом это путешествие особой трудности не представляет – куда труднее и опаснее ехать на прииски зимой, когда приходится весь путь в 1800 верст проделывать на почтовых при 25-45-градусном морозе! Богатейшие золотые прииски этого края расположены по речке Бодайбо, притоку Витима, тянущейся на 80 верст на север от г. Бодайбо. Почти все прииски принадлежат акционерной компании под именем «Ленское Золотопромышленное Товарищество». Богатейший из этих приисков Феодосиевский; по содержанию золота – это богатейший не только в России, но и в мире прииск: в некоторых забоях содержание исчисляется десятками фунтов золота на куб породы. В этом году один этот прииск дал свыше 500 пудов золота! Золото на приисках Ленской тайги добывается пятью способами: 1. лотками 2. бутарами 3. американками 4. гидравликой 5. шахтами Бутара Американка. Старательские работы на Пророко-Ильинском прииске. URL=http://www.radikal.ru][/URL] Гидравлика на Тихоно-Задонском прииске. Работа Брандспойта. Забой в шахте Добыча золота драгами находится еще в опытной стадии, и потому об этом способе я не буду говорить. Способ промывки золота лотками (лоток – род деревянного блюда) наиболее примитивный, и пользуются им главным образом старатели-хищники, так называемые «лотошники». Заключается этот способ в том, что золотоносная порода размешивается в лотке с водой, золото оседает на дне лотка, а земля «спускается» на дно в ручей, у которого хищник «старается». Таких старателей в тайге тысячи и зарабатывают они, если попадут в хорошее место, от 30 до 10 рублей в день. Бутарами и американками работают крупные старатели и золотопромышленники. Бутара представляет из себя систему продолговатых ящиков с решетом, на которое вместе с водой поступает золотоносная порода. Золото проваливается сквозь отверстия решета, а земля и камни стекают в подставляемые тачки, на которых промытая порода отвозится на отработанные отвалы. Американки представляют из себя длинные желоба с быстро текущей водой. Золотоносная порода, которая берется тут же возле американки, перебрасывается лопатами в желоба, в которых золото отмывается от породы, причем золото оседает в особых перегородках и решетчатых днах желобов, а земля и камни уносятся течением воды в реку. Американки являются наиболее дешевым, удобным и продуктивным способом добычи золота и широко распространены в Приленской тайге. Четвертый – гидравлический способ заключается в том, что струя воды под давлением нескольких атмосфер направляется из брандспойта в открытую россыпь, которую и размывает. Размытая порода с золотом скатывается в желоб наподобие американки, где золото окончательно отделяется от породы, причем золото оседает на дне желоба, а порода уносится течением воды на отвалы. Гидравлический способ является усовершенствованным способом разработки открытых россыпей и представляет ту особенность, что при нем, при большей добыче затрачивается минимум рабочих поденщин; так, для промывки 30 кубов породы необходимо затратить только 8 рабочих поденщин. Перечисленными четырьмя способами разрабатываются открытые россыпи. Подземные россыпи разрабатываются шахтами. Шахты бывают глубиной от 6 до 30 сажень и вышиной от 1 до 8 аршин, в зависимости от толщины золотоносного слоя. Земля в шахте мерзлая, так называемая «вечная мерзлота». Шахты тянутся под землей на протяжении иногда нескольких сот саженей, разветвляясь в стороны, причем каждое разветвление заканчивается забоем. Есть шахты, в которых со всех сторон сочится и бьет вода – в таких шахтах особенно трудно работать: самая непромокаемая одежда через полчаса совершенно промокает. Кроме «вечной мерзлоты» и мокроты, одним из существенных недостатков шахт являются постоянные обвалы. Хотя шахты тщательно укрепляются лесом, но давление массы земли бывает иногда настолько сильно, что расплющивает в щепы бревна толщиной в 12-16 вершков. Процент несчастных случаев на приисках очень велик – на некоторых он достигает 50%, в среднем же составляет 23%. Картина обвала в шахте. «Золотопромывательная машина». Проследим главные моменты шахтовой добычи золота. Золотопромывательная машина. Съемка золота под дырчатым цилиндром. «Крутой спуск». Шахта Ленского Золотопромышленного Товарищества. Слитки золота в золотосплавочной. Забойщик с помощью кайлы и лопаты, откладывает золотоносную породу, которой и нагружает вагонетку или тачку. На вагонетке или тачке порода подвозится к устью шахты, где породу сбрасывают в бадью, которая и поднимает ее на поверхность земли. Поднятая порода поступает на золотопромывательную машину, где сначала в дырчатом цилиндре, а затем на особой наклонной плоскости с системой перегородок, золото отмывается от породы и оседает. Золото на приисках Ленской тайги россыпное, самородное, причем встречаются самородки весом 20 фунтов. Всё добываемое на приисках золото поступает в золотосплавочную лабораторию, откуда оно выходит уже в перенумерованных слитках, с указанием пробы каждого слитка. Проба самородного золота колеблется от 80 до 94, самым высокопробным является темное золото; чем золото светлее, тем ниже его проба. С приисков золото отсылается в Государственный Банк и Монетный Двор. Наш сотрудник Н.А. Захаров на обратном пути с приисков. Вследствие мелководья пришлось ехать по Лене на лодке. Рядом с ним богатый старатель Отрезанное от культурных центров громадным расстоянием приисковое население ведет совершенно своеобразный образ жизни. Главную массу населения составляют рабочие, их 85%, остальные 15% состоят из служащих и туземцев-якутов. Число контрактованных рабочих у одного Ленского Золотопромышленного Товарищества превышает 8000 человек. Но кроме контрактованных рабочих у того же товарищества работает около 4000 старателей. Старатель – это тот же рабочий, снявший в аренду небольшой кусок золотоносной земли и разрабатывающий ее на свой риск и страх. Старатель не платит за аренду земли, но платит за каждый проработанный им день, независимо от количества добываемого им золота. Всё добытое золото старатель обязуется сдать Л.З.Т. за определенную плату, которая ниже курсовой приблизительно на 20%. Зарабатывают старатели различно: если, по местному выражению «пофартит» – повезет, если он попадет на богатое место, то может заработать 500 и больше рублей в месяц. Средний же месячный заработок старателя нужно считать в 100 рублей. Контрактованный рабочий зарабатывает в месяц в среднем 87 рублей при квартире, отоплении и освещении. Бюджет бессемейного старателя и рабочего составляет 33 рубля в месяц. До войны, пока была в продаже водка, каждый рабочий тратил 9 руб. 50 коп. на водку. Хотя пьянствуют рабочие и теперь, но всё же не так, как при существовании казенной продажи питей. На смену казенной водке явилась самосадка и самогонка. Самосадку на приисках делают из денатурированного спирта, перца, разных кислот и… динамита! Какую роль должен играть динамит в этом напитке, мне точно выяснить не удалось. Один рабочий высказал остроумное предположение, что динамит примешивается вероятно для того, чтобы «разрывало!». Самогонка – это спирт, выкуриваемый на тайных винокуренных заводах. Поставкой этих напитков занимаются целые артели самосадчиков, которые скрываются в горах и таежных лесах, и совершенно неуловимы для местной стражи. Несмотря на ужасное действие этих напитков – они вызывают рвоту, отравление и бессознательное состояние – рабочие всячески прикрывают самосадчиков и платят им по 3-5 руб. за стакан «сивухи». Кроме пьянства, большим злом среди приисковых рабочих является игра в карты и орлянку. Рабочие играют азартно и крупно. Ставки редко бывают меньше 5 рублей. При мне один рабочий проиграл 900 руб. в течение получаса. Проигрывая и пропивая большие суммы, часто весь свой заработок, рабочий, чтобы достать денег, спускается ночью в неработающие шахты и там ищет «шукует» золото. Рискуя быть заваленным обвалом, задушенным дымом от поджогов, рискуя быть пойманным шахтовой стражей – он всё же идет на это воровство. Ежегодно рабочие уносят из шахт до 50 пуд. золота, что составляло и в мирное время внушительную сумму в миллион рублей. Конечно, не все рабочие пьют, воруют и играют в карты, есть и такие, которые добросовестно копят деньги. Все приисковые рабочие – народ пришлый, причем половина (57%), являются выходцами из губерний Европейской России, а остальная часть – из местностей Азиатской России. Все рабочие приезжают с целью поправить свои финансы и уехать. В среднем рабочий остается на приисках два-три года и при нормальной жизни увозит с приисков 1000-1200 рублей. С внешней стороны условия приискового рабочего не оставляют желать лучшего: к услугам рабочих прекрасные больницы (лечение бесплатное), народные дома, столовые, чайные, кинематографы, библиотеки, приисковые магазины и амбары, в которых рабочим продаются предметы первой необходимости по утвержденной Окружным Инженером таксе. В общем рабочему на золотых приисках живется хорошо, признаком чего является, между прочим, большой % возвращающихся на прииски рабочих: на приисках Л.З.Т. возврат рабочих выражается 30%. |
|
|
|
 8.3.2010, 3:54 8.3.2010, 3:54
Сообщение
#64
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Стокгольм: память далекой войны
В Стокгольме, неподалеку от парадных дверей российского посольства стоит памятник. Надпись на нем гласит, что на этом месте, в зданиях бывшей фарфоровой фабрики во время русско-шведской войны 1788 — 1790 годов содержалось более 700 русских военнопленных. Наверху доски — российский двуглавый орел, внизу — старинная галера. "Вечная память воинам русской армии, морякам гребной флотилии и десанта". Латунная табличка на обратной стороне памятника указывает, кто и когда его установил: "Посольство Российской Федерации. Журнал "Вокруг света". 1997 год". Все началось несколько лет назад, когда сотрудник российского посольства Константин Косачев обратил внимание, что на каменной стеле, установленной шведами неподалеку от посольской ограды, среди подробно перечисленных событий шведской истории, происходивших на этом месте, отсутствуют события 1788 — 1790 годов. А ведь именно на эти годы приходится четвертая по счету русско-шведская война! О чем же шведы не захотели написать, устанавливая эту историческую скрижаль? Последовали запросы и, наконец, из Стокгольмского городского архива пришел ответ, раскрывший пропуск в хронологии. ...В 1759 году в пригороде Стокгольма, расположенном к западу от столицы и называемом Мариеберг, была основана фарфоровая фабрика. Ее изделия, главным образом статуэтки и вазы с эмблемой в виде трех корон и вензеля основателя и владельца фабрики Конрада Эреншильда, приобрели известность не только в Швеции, но и в других странах Европы. Незадолго до начала войны с Россией 1788 - 1790 годов фабрика была закрыта, и в годы войны ее пустующие здания использовались для содержания русских военнопленных, которых насчитывалось более 700. "Тщательное исследование старых и современных карт показывает, что территория посольства России граничит как раз с той частью Мариеберга, где располагались строения фабрики и где содержались русские военнопленные", — сообщала сотрудница архива Маргарета Андерсон. Так вот какой факт не вошел в перечень событий на шведской стеле! И каков исторический казус: в Мариеберг, вошедший в городскую черту Стокгольма, вновь — хотя и совсем в другом качестве — вернулись русские... К поиску подключились атташе российского посольства Павел Маринко и журналист-международник Николай Вуколов. С помощью знакомых шведских историков они выяснили, что первые 56 русских военнопленных были направлены в Мариеберг 23 апреля 1789 года — почти через год после начала войны и за год с небольшим до ее окончания (война началась 21 июня 1788 года нападением шведов на русскую таможенную заставу в Финляндии близ нынешнего города Савонлинна, а закончилась 3 августа 1790 года подписанием в местечке Верель мирного договора, по которому оба государства сохраняли прежние границы; Швеция не получила, как того хотела, начиная войну, русской части Финляндии). Но откуда взялись "более 700 пленных", если учесть морской характер войны, которая велась, главным образом, у берегов Финского залива, куда шведский флот зашел за день до начала военных действий? Николай Вуколов выяснил — и капитальная "Боевая летопись Русского флота", изданная в 1948 году, подтверждает это — такое количество военнопленных стало результатом морского сражения у Роченсальма (по-шведски — Свенскзунда), произошедшего 28 июня 1790 года неподалеку от финского портового города Котка. Вечером 27 июня русская гребная флотилия, на суда которой был посажен десант, сосредоточилась у входа на Роченсальмский рейд. Во флотилии, которой командовал вице-адмирал принц Нассау-Зиген, было 273 судна, около тысячи орудий и 14 тысяч человек — вместе с десантом. Принц Нассау-Зиген готовился атаковать шведский гребной флот под командованием самого короля Густава III: 295 судов и тоже около тысячи орудий. Принц Карл-Генрих-Николай-Отто Нассау-Зиген, принятый в 1786 году в русский флот контр-адмиралом, к этому времени имел ряд громких побед над гребным флотом Турции и Швеции и был удостоен высшего российского ордена Св. Андрея Первозванного. Генеральное сражение шведам он хотел дать именно 28 июня — в день восшествия на престол императрицы Екатерины II. И всю ночь перед боем, несмотря на испортившуюся погоду, суда передвигались, занимая назначенные позиции. Утро 28 июня русские гребцы встретили почти обессиленными. Тем временем ветер усилился, поднялась крутая волна, и удерживать гребные суда на позициях, назначенных для боя, стоило огромного труда. Но Нассау-Зиген отдал приказ атаковать противника, чьи суда стояли на якорях, надежно укрытые от непогоды островами. Волны расстроили первую линию русских судов, пошедших в атаку, на них навалились суда второй линии. Шведы методически расстреливали сбившиеся в кучу русские суда с обессиленными гребцами. Ветер достиг штормовой силы, и суда в беспорядке понесло на острова, с которых открыли огонь шведские батареи, заблаговременно там устроенные. Русская гребная флотилия потеряла 52 судна и более 7 тысяч человек убитыми, утонувшими и взятыми в плен. Увы, Цусима была не первой "черной дырой" российского флота... И вот 3 декабря 1997 года во время визита в Швецию российского президента министр иностранных дел России Евгений Примаков торжественно открыл на территории посольства памятник жертвам той далекой войны. ... Россия вспомнила о своих воинах, попавших в плен двести лет назад. Автор: Владимир Лобыцын Источник: Журнал "Вокруг Света" |
|
|
|
 8.3.2010, 4:47 8.3.2010, 4:47
Сообщение
#65
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Восток - дело тонкое
Евгений и Юлия Войтинские, Торонто Марокко. Двадцатые годы. Недавно отгремела Первая Мировая война. И вот новый очаг. Вспыхнула Рифская война во французском протекторате Марокко. Зиновий Пешков, командующий подразделением Французского Иностранного Легиона, воюет против восставших берберов Что делал в пустыне наш соотечественник? Почему он носил фамилию Пешков, как у известного писателя, и почему мы рань-ше ничего об этом не знали? Поразительное переплетение судеб и характеров людей. Один из двух родных братьев похоронен на Красной площади в Москве, другой - на кладбище Русского Исхода Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Младший брат, Свердлов Яков Михай-лович, - первый, председатель ВЦИК, правая рука Ленина. Старший, Зиновий Пешков , - сподвижник генерала де Гол-ля, сам полный генерал, никогда не упоминавшийся официальной советской историографией. Разница в возрасте меж ду братьями - восемь месяцев. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" В МАРОККО Протекторат Франции Морокко в 20-е го-ды прошлого века не был похож на нынешнее королевство Марокко аль-Мамляка аль-Магрибия, куда потоком стекаются толпы иностранных туристов. Третья Рифская война в Северной Африке освещалась всеми телеграфными агентствами. На северо-западе страны восстали против французских властей меcтные берберские племена рифов. Рабат и Марракеш, который называли Парижем Сахары, кишели корреспондентами, прожигателями жизни, авантюристами и шпионами всех мастей. Уже много лет марокканская земля слыла "горячей точкой" планеты, наряду с Лива ном, Афганистаном и Палестиной. Во Французском Иностранном Легионе служили любители приключений, "псы войны" неробкого десятка. Зная итальянский, немецкий и английский, Пешков не испытывал затруденений, общаясь со своими "великолепными пингвинами". Так он называл леги-онеров, которые носили характерные белые кепи, делавшие их похожими на антарктических обитателей. Наряду с другими европейцами службу несли воины изгнанных из России Белых армий. В начале 20-х годов, по авторитетному мнению специалистов, вербовочные контракты Легиона подписали 8000 русских эмигрантов. Майор Зиновий Пешков командовал пехотной ротой Иностранного Легиона. Больше всего он ценил мужское братство. "Наш Великолепный Однорукий" называли его за глаза легионеры. Но и он не оставался в долгу. "Мои босяки" - называет он их про себя. В ординарцах у него - казацкий есаул. Что бы подумал тесть, полковник Бураго: "Казак на службе у выкреста". Вот уже поистине прав был Шекспир, когда говорил The time is out of joint "Прервалась связь времен!". Как разительно все поменялось за несколько лет. Зиновий искренне был привязан к земляку-есаулу и тяжело переживал его смерть. Добро бы в бою - еса-ула зарезал в городе какой-то марокканец. Как говорят французы, Couleur locale (фр.) - местный колорит. В частной переписке Горький пишет Екатерине Павловне Пешковой: "Зиновий в Африке, в Нумидии, командует ротой. Прислал оттуда интересные открытки. Неуемный парень..." После тяжелого ранения в левую ногу Зиновий лежал в госпитале. Позднее так описывал это время: "Летом 1925 года я находился в военном госпитале в Рабате, где ждал заживления раны на левой ноге, полученной в боях с рифами. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать и восстановить в памяти годы службы в Марокко, в Иностранном Легионе". Впечатления и личный опыт нашли отражение в выпущенной им книге "Звуки горна. Жизнь в Иностранном легионе" , 1926 год, на английском языке, в США. Год спустя книга вышла во Франции под названием "Иностранный легион в Марокко"(La Legion etrangere au Maroc, Paris, Lesage, 1927) . Предисловие к книге написал Андре Моруа. Зиновий так описал "солдат удачи": "Эти кочующие труженики, которые под солнцем Африки выполняют множественные и трудные задачи. Они могли бы сказать о себе, как солдаты Рима: "Мы идем и дороги следуют за нами". Одновременно с Пешковым в Легионе служил берлинский журналист Бенно Винньи, который в это же время опубликовал роман "Эми Жолли . - женщина из Марракеша". Права на экранизацию романа выкупила голливудская студия "Парамаунт". На этой основе был снят черно-белый немой фильм "Марокко" режиссера Иозефа Штернберга. Фильм вошел в классику мирового кино. Марокко. Середина 20-х годов. Легионеры маршируют по пустыне без вина и женщин. Певичка Эми Жолли приезжает из Парижа, чтобы выступать в местном варьете Ло-Тинто. В роли певички Марлен Дитрих. Это ее первая работа для голливудских студий. Сначала роль проститутки и наркоманки несколько шокировала уже признанную европейскую звезду. Но желание сняться в Голливуде с именитыми партнерами перевесило. Богач и жуир Ла Бессье (Адольф Менжу) предлагает Эми свое покровительство. Но она любит простого легионера, бесстрашного солдата удачи американца Тома Брауна (Гарри Купер). Фильм имел необыкновенный успех, был номинирован на Оскара в четырех номинациях. Звезда Марлен Дитрих засияла с удвоенной силой уже по ту сторону Атлантики. Здесь следует отметить любопытный факт. Несколько лет назад, работая с архивами Марлен Дитрих, нам удалось обнаружить переписку реальной Эми Жолли с Марлен Дитрих. Бывшая певичка жила в захолустном городке Марокко Агадире и содержала якобы семейный пансион. Мотивируя тем, что за основу нашумевшего фильма были взяты реальные события из ее жизни, она просила хотя бы частично поделиться гонорарами. Марлен великодушно послала ей боль-шую сумму. Но просила своего друга Чарльза Грейвса проверить на месте, в Агадире, семейный пансион и его содержательницу. Из телеграммы Грейвса стало ясно, что собой представляет заведение Эми Жолли. Оказалось, что это бордель. И более того, друг Марлен пишет, что "работают" там 8-9 летние девочки, которые обслуживают иностранных солдат и мес-тных погонщиков верблюдов. Узнав все это ему стало плохо. Это в жизни. В кино иначе. Зададимся вопросом, почему публике нравятся фильмы с восточной экзотикой? Такие как "Касабланка" со звез-дными Джефри Боггартом и Ингрид Бергман, "Лоуренс Аравийский", собравший семь Оскаров, или, наконец, уже в наше время советский кинобоевик "Белое солнце пустыни"? Разумеется, во всех случаях присутствует крепко сбитый сценарий, достоверная игра занятых в лентах звезд экрана. Но не только. Бескрайнее голубое небо, контрастные желтые пески и синее море, лиловые закаты над пустыней. Мудрое одиночество, изредка нарушаемое цепочкой бредущих верблюдов . И полное слияние с природой. Романтика и экзотика Востока. А, как известно, Восток - дело тонкое. В РОССИИ Но вернемся в Россию, к Зиновию Пешкову и его родному брату Якову Михайловичу Свердлову. Родились братья в еврейской семье в Нижнем Новгороде. Отец - Мовше (Михаил Израилевич ) Свердлов. Мать - Елизавета Соломоновна. Ешуа Залман Мовш Свердлов появился на свет в 1884 году. В следующем году родился сын Яков. Третий брат Беньямин (впоследствии нарком путей сообщения РСФСР) родился в 1887 году. Расстрелян в 1937. Образование Зиновия - три года Михайловского приходского училища. Между Алексеем Пешковым (Максимом Горьким), жившем, как известно, в Ниж-нем Новгороде и семьей Свердловых установились дружеские отношения. Особое расположение Алексей Максимович испытывал к старшему брату Залману - Зиновию. Не миновала и Зиновия революционная деятельность. Первый арест в 1901 году. А в 1902 он прибывает в Арзамас, куда был сослан Горький. А к Горькому, в свою очередь, приезжает В.И. Немирович-Данченко для чтения новой пьесы "На дне". Выясняется, что у Зинки (так его звал Горький) - нешуточное актерское дарование. Режиссер МХТа, заручив-шись поддержкой самого Шаляпина, начинает хлопотать о зачислении Зиновия на драматические курсы. Из-за ограничения проживания евреев за пределами черты оседлости Горький усыновляет Зиновия и дает ему свою фамилию. Но одновременно нужно было креститься в православную веру. Mетрическая книга арзамасской Троицкой церкви свидетельствует: "Мещанин иудейской веры Ешуа Золомон Мовшев Свердлов принял православное крещение под именем Зиновия Пешкова". Так он и вошел в историю. Теперь, как православному, ему разрешено проживание в Москве. Чем он и пользуется. Поступает в школу МХАТа. Проучившись год в драматической школе, Пешков заканчивает ее на отлично. Один из немногих он принят в труппу Московского Художественного Театра. В это время разразилась русско-японская война, и правослаавного Зиновия должны были призвать в армию. Посоветовался с приемным отцом. Ответ был краток: "Сынок, нет резона сложить свою голову за эту шайку. Бездарный выбор. Война эта - не твоя. Уезжай". Пешков по загранпаспорту, сделанному Горьким, через Финляндию уехал в Швецию. Оттуда перебрался в США. А из США - в страну настоящих мужчин, в Канаду. Пошел отсчет другой жизни - он стал "профессиональным искателем приключений". В КАНАДЕ И США В Торонто Зиновий работал на меховой фабрике, в типографии, на кирпичном заводе. Периодически жил в США, опять возвращался в Канаду. Блестяще выучил английский, но на жизнь зарабатывал с трудом. Америка определенно не нравилась ему. Он пишет Горькому: "... Всеми руководят требования желудка. Еще много станций надо проехать этим людям Нового Света, чтобы обрести свой путь, чтобы стать народом и выработать национальную идею .....". Наблюдательный и думающий эмигрант обречен стать неудачником. Денег на жизнь Зиновию катастрофически не хватает, и он "балуется пером" - пишет рассказы и отправляет их Горькому. Один из них, "Без работы", Горький опубликовал. В это время в жизни самого пролетарского писателя происходят большие перемены. У него любовь к красавице-актрисе Художественного театра Марии Федоровне Андреевой (урожденная Юрковская, по мужу Желябужская). Эта легендарная дама была товарищем Ленина по революционной борьбе, получала деньги от богатейшего купца Саввы Морозова. Словом она оправдывала данную ей Ленином партийную кличку "Товарищ Феномен". Она была гражданской женой Горького на протяжении десяти лет. Максим Горький вместе с М.Ф.Андреевой в марте 1906 года прибывает в Америку, чтобы собрать деньги для революционной борьбы. Зиновий встречает приемного отца прямо на пароходе и на несколько месяцев становится при нем переводчиком и секретарем. Из Америки Горький уезжает на Капри. А Зиновий, еще не утоливший свою страсть к путешествиям, отправляется в конце 1906 года в Новую Зеландию. Почти год он проработал крючником на мясокомбинате в Веллингтоне. Устал. Ему нужен отдых. Горький усиленно зовет Зинку к себе на виллу Сеттани, на Капри. Скопив деньги на билет, Зиновий отправился в Италию, к приемному отцу. НА КАПРИ На Капри Зиновий ведет бухгалтерию Горького. А также помогает общаться с местным населением. К английскому быстро прибавляются французский и итальянский. По свидетельству биографов с 1907 по 1910 годы Горький жил на вилле Сеттани. А с 1911 по 1913 - на вилле Спинола. Его гостеприимством пользовались известные писатели, марксисты: Ленин, Луначарский, Красин, Дзержинский. Такие известные люди, как Шаляпин и Репин. Но как шутил издатель Константин Петрович Пятницкий: "В этом водовороте людей и солнца у Горького было только два друга: попугай и Зинка". В то время Алексей Максимович пишет Екатерине Пешковой: "Людей видел я несть числа, а ныне чувствую, что всего ближе мне Зиновий, сей маленький и сурово правдивый человек, за что повсюду ненавидим". Здесь, на Капри, Зиновий встречает свою первую жену Лидию Бураго - дочь казачьего полковника. Здесь же - многолюдная и веселая свадьба. Рождается дочь Елизавета. Но вскоре Горький и Зиновий ссорятся и ссорятся основательно. Горький уезжает в Россию. А Зиновий с женой и маленькой дочкой - в США. В США жизнь не задалась Зиновий возвращается в Италию. Тут начинается Первая Мировая война. НА ВОЙНЕ (ПЕРВОЙ МИРОВОЙ) К началу Первой Мировой войны Зиновию Пешкову 30 лет. Он ничего не нажил: ни квартиры, ни денег. А надо кормить жену и маленькую Лизу - дочь. Поэтому с началом войны Пешков добровольно записался во французскую армию. Но тут был принят вердикт, по которому единственное подразделение, где могут служить иностранцы во Франции, - это Иностранный Легион. Так Зиновий стал легионером. В Легионе он встретил немало соотечественников: в патриотическом порыве русские студенты Сорбонны и других французских школ и университетов вступили в Легион. Что представлял собой Легион в ту пору? Из письма убитого легионера, многое становится ясным: "... Для людей чести, которые хотят похоронить свое прошлое, нет лучшего кладбища, чем Легион, его суровая дисциплина военной каторги и его жизнь, исполненная трудностей, лишений и военных опасностей. Я пришел сюда в поисках смерти или успокоения". Эти слова убитого легионера приводит в своей книге о Легионе Виктор Финк. Легионер Пешков вскоре отличился в боях под Реймсом. Ему присваивают звание капрала и назначают командиром отделения пехотного полка. В мае 1915 года в боях под Аррасом Пешков тяжело ранен в правую руку. Поразительно, что после перевязочного пункта, где ему оказали первую помощь, он самостоятельно в полуобморочном состоянии садится в поезд и добирается до американского госпителя в Нейи под Парижем. Руку спасти не удалось - ее ампутировали до плеча. 28 августа 1915 года маршал Жоффр подписал приказ о награждении капрала Пешкова Военным крестом с пальмовой ветвью. На торжественной церемо-нии Зиновию вместе с крестом вручили именное оружие. В свите маршала Франции оказался рослый офицер по фамилии Де Голль (Charles Andre Joseph Marie de Gaulle, 1890-1970). Он подошел к легионеру и разговорился с ним. Эта дружба во многом определила впоследствии дальнейшую судьбу Зиновия. Осень 1915 года. Итог войны - тяжелое ранение. Жена, красавица Лидия, оставляет его. В минуту отчаяния спасает только служба: теперь Легион - его един-ственная семья. Он возвращается в полк лейтенантом. Затем длительное турне по США, куда его направляют с лекциями и для переговоров с правительством этой страны о вступлении в войну на стороне Англии и Франции. Наступает февраль 1917 года. В России - революция. Героя войны направляют на родину с деликатной миссией - в качестве представителя Франции при Временном Правительстве. Зиновий сопровождает Керенского в его поездках на русско-германский фронт. В этот же короткий период между 1917 и 1920 годами как представитель Франции, а точнее рыцарь "плаща и кинжала", он прибывает в ставку генерала Жанена при Колчаке. Потом представляет интересы Франции в независимой Грузии. В Тифлисе Зиновию ясно, что, как только придет Красная армия, марионеточный режим рухнет. Как и во все свои прошлые приезды на родину, Пешков чувствует себя здесь снова чужим среди своих. Короткое время Зиновий проводит в ставке генерала Врангеля в Крыму, откуда эвакуируется на французском военном судне "Вальдек Руссо". Как известно, все попытки Антанты ра-зыграть русскую карту окончились провалом. В этом контексте и миссия Зиновия на родине не приносит успеха. И Зиновий в 1920 году возвращается во Францию, где ему присваивают очередной чин - капитана. ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ После ранения в Марокко Зиновий слу-жит в Министерстве иностранных дел Франции. Учитывая превосходное знание арабского языка, приобретенное в Марокко, его отправляют на столь любимый им Восток. Семь лет отданы службе при Верховном Комиссаре в Леванте. Левант в ту пору - и Сирия, и Египет, и Палестина, и Ливан. В конце тридцатых годов Зиновий случайно встретился с Де Голлем. Два офицера обедали в парижской закусочной -brasserie. Сошлись во мнении, что весьма забавно, что оба все еще полковники, когда все вокруг давно генералы. "Мой несносный характер - вот причина", - улыбнулся Де Голль. Пешков мог бы сказать то же, вспомнив приемного отца: "слишком прям со всеми" и добавить уже от себя: "к тому же чужой". И действительно Пешков тогда жил между двух огней: русская эмиграция не забывает о том, что именами его брата и приемного отца названы два города в ненавистной ей "совдепии". Французская контрразведка, в свою очередь, считает каждого легионера, чужим, хотя и осыпает его Республика наградами. НА ВОЙНЕ (ВТОРАЯ МИРОВАЯ) О службе в жарких песках Марокко в 20-ые годы мы уже писали в начале рассказа. С 1937 по 1940 полковник снова командует батальоном в Марокко, где и застает его Вторая Мировая война. Франция капитулировала 22 июня 1940 года. В этот момент старый друг Де Голль обращается к французам из Лондона, призывая всех патриотов своей страны не сдаваться, а примкнуть к его движению "Свободная Франция". Де Голль отзывает полковника Пешкова с Африканского фронта и отправляет его специальным послом в Южную Африку, чтобы убедить нейтральных буров поделиться оружием. Миссия успешна. В 1943 году Зиновий, закончивший четыре класса приходского училища, получает звание бригадного генерала Опять в жизни Пешкова звучит тема Востока. Де Голль назначает его послом в Китай. Приказано установить дружеские отношения с Чан Кайши. Для выполнения этого приказа пришлось выучить китайский язык. Его дипломатические способности уникальны: он устанавливает хорошие отношения не только с Чан Кайши, но и с Мао Цзедуном. Война еще не окончена, но на Востоке идет новый передел мира. Пункты назначения неутомимого Пешкова - Китай, Камбоджа, Лаос, Вьетнам и Индия. В марте 1946 года 62-летний генерал назначен главой Французской Миссии Союзного командования на Дальнем Востоке при генерале Макартуре. Он учит японский. За дипломатические заслуги в 1947 году ему присвоено высшее звание - кавалер Ордена Почетного Легиона. НА ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ПЕНСИИИ В начале 1950 года прошение одинокого легионера об отставке было удовлетворено. В центре Парижа, недалеко от Place Charles de Gaulle, находится дом, в котором он жил на rue Loriston. Помимо пенсии ему положена домработница. Франция - страна небогатая. Итог жизни Зиновия - мечта любого французского буржуа. И в это закатное время обеспеченной старости в жизнь Пешкова входит Эдмонда Шарль-Ру. Ему под семьдесят, а ей - за тридцать…У них много общего: медсестра Эдмонда прошла с легионерами всю войну. Эдмонда пишет романы. Ее первая книга - о судьбе сицилийских эмигрантов в Америке "Прощай, Палермо" получает Гонкуровскую премию. Ее книга о Коко Шанель и сегодня пользуется популярностью, в том числе и в России. Стареющий де Голль поручает генералу на пенсии отправиться на другой край света и убедить его старого приятеля Чан Кайши, а заодно и великого Мао в том, что Франция - им обоим лучший друг. Пешкову удалось это сделать. Пусть и ненадолго, но о Франции снова заговорили как о великой державе ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27 ноября 1966 года Пешкова не стало. Единственный генерал французской армии - иностранец, соратник де Голля, литератор, Пешков был одним из наиболее разносторонне образованных людей своего времени во французской республике. Человек беспримерной храбрости, феноменального обаяния, он прожил очень сложную жизнь. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа на его могиле написано три слова: "Зиновий Пешков, легионер". Все газеты вышли с некрологом под заголовком "Ушел Солдат". В православной церкви на рю Дарю, чьим прихожанином был Зиновий Алексеевич, его старый друг священник Николай Оболенский отслужил по нему заупокойную панихиду. Были высокие французские и иностранные чины. Почетный караул из легионеров. Ордена на подушечках. Жизнь Зиновия Пешкова не идет ни в какое сравнения с похождениями Эдмона Дантеса, вышедшими из под пера великого Дюма. Прав был Луи Арагон, который назвал его жизнь "одной из самых странных биографий этого бессмысленного мира". |
|
|
|
 9.3.2010, 1:55 9.3.2010, 1:55
Сообщение
#66
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
1934 год, Иосиф Сталин беседует с Гербертом Уэллсом
Герберт Уэллс Июль 1934 года - И.В. Сталин беседует со знаменитым английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом, который встречался с В.И. Лениным, после чего написал книгу «Россия во мгле». О встрече с И.В. Сталиным Г. Уэллс писал: «Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением. В моём сознании был создан образ очень осторожного, сосредоточенного в себе фанатика, деспота, завистливого, подозрительного монополизатора власти. Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринёра и самодовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью не вырывался из родных горных долин... Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда, после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России». Уэллс. Я Вам очень благодарен, мистер Сталин, за то, что Вы согласились меня принять. Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи. Теперь я приехал к Вам, чтобы расспросить Вас, что Вы делаете, чтобы изменить мир… Сталин. Не так уж много… Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и как простой человек смотрю, что делается вокруг меня. Сталин. Крупные деятели, вроде Вас, не являются ”простыми людьми”. Конечно, только история сможет показать, насколько значителен тот или иной крупный деятель, но, во всяком случае, Вы смотрите на мир не как ”простой человек”. Уэллс. Я не собираюсь скромничать. Я имею в виду, что я стремлюсь видеть мир глазами простого человека, а не партийного политика или ответственного государственного деятеля. Моя поездка в Соединенные Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в свое время сказал, что надо ”учиться торговать”, учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас, постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой? Мне, например, бросилось в глаза в Вашингтоне то же, что происходит здесь: расширение управленческого аппарата, создание ряда новых государственных регулирующих органов, организация все объемлющей общественной службы. Так же, как и в вашей стране, им не хватает умения руководить. Сталин. У США другая цель, чем у нас, в СССР. Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частнокапиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, которые причиняются существующей экономической системой. У нас же, как Вы знаете, на месте разрушенной старой экономической базы создана совершенно другая, новая экономическая база. Даже если те американцы, о которых Вы говорите, частично добьются своей цели, то есть сведут к минимуму этот ущерб, то и в этом случае они не уничтожат корней той анархии, которая свойственна существующей капиталистической системе. Они сохраняют тот экономический строй, который обязательно должен приводить, не может не приводить к анархии в производстве. Таким образом, в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но объективно нынешняя база общества сохраняется у них. Поэтому объективно никакой перестройки общества не получится. Не будет и планового хозяйства. Ведь что такое плановое хозяйство, каковы некоторые его признаки? Плановое хозяйство стремится уничтожить безработицу. Допустим, что удастся, сохраняя капиталистический строй, довести безработицу до некоторого минимума. Но ведь ни один капиталист никогда и ни за что не согласится на полную ликвидацию безработицы, на уничтожение резервной армии безработных, назначение которой - давить на рынок труда, обеспечивать дешевле оплачиваемые рабочие руки. Вот Вам уже одна прореха в ”плановом хозяйстве” буржуазного общества. Плановое хозяйство предполагает далее, что усиливается производство в тех отраслях промышленности, продукты которых особенно нужны народным массам. А Вы знаете, что расширение производства при капитализме происходит по совершенно иным мотивам, что капитал устремляется в те отрасли хозяйства, где более значительна норма прибыли. Никогда Вы не заставите капиталиста наносить самому себе ущерб и согласиться на меньшую норму прибыли во имя удовлетворения народных нужд. Не освободившись от капиталистов, не разделавшись с принципом частной собственности на средства производства, Вы не создадите планового хозяйства. Уэллс. Я согласен со многим из того, что Вы сказали. Но я хотел бы подчеркнуть, что если страна в целом приемлет принцип планового хозяйства, если правительство понемногу, шаг за шагом, начинает последовательно проводить этот принцип, то, в конечном счете, будет уничтожена финансовая олигархия и водворится социализм в том смысле, в каком его понимают в англо-саксонском мире. Рузвельтовские лозунги ”нового порядка” имеют колоссальный эффект и, по-моему, являются социалистическими лозунгами. Мне кажется, что вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между двумя мирами, надо было бы в современной обстановке стремиться установить общность языка между всеми конструктивными силами. Сталин. Когда я говорю о невозможности осуществления принципов планового хозяйства при сохранении экономической базы капитализма, я этим ни в какой степени не хочу умалить выдающиеся личные качества Рузвельта - его инициативу, мужество, решительность. Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт - самая сильная фигура. Я поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности планового хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнения в личных способностях, таланте и мужестве президента Рузвельта. Но самый талантливый полководец, если обстановка ему не благоприятствует, не может добиться той цели, о которой Вы говорите. Теоретически, конечно, не исключено, что можно в условиях капитализма понемногу, шаг за шагом, идти к той цепи, которую Вы называете социализмом в англо-саксонском толковании этого слова. Но что будет означать этот ”социализм”? В лучшем случае - некоторое обуздание наиболее необузданных отдельных представителей капиталистического профита, некоторое усиление регулирующего начала в народном хозяйстве. Все это хорошо. Но как только Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно потерпит полную неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные экономии - не у него. Ведь все это является частной собственностью. И железные дороги, и торговый флот - все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия квалифицированного труда, инженеры, техники, они ведь тоже не у Рузвельта, а у частных хозяев, они работают на них. Нельзя забывать о функциях государства в буржуазном мире. Это - институт организации обороны страны, организации охраны ”порядка”, аппарат собирания налогов. Хозяйство же в собственном смысле мало касается капиталистического государства, оно не в его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистического хозяйства. Поэтому я боюсь, что Рузвельт, несмотря на всю свою энергию и способности, не добьется той цели, о которой Вы говорите, если вообще у него есть эта цель. Может быть, через несколько поколений можно было бы несколько приблизиться к этой цели, но я лично считаю и это маловероятным. Уэллс. Я, может быть, сильнее, чем Вы, верю в экономическую интерпретацию политики. Благодаря изобретениям и современной науке приведены в действие громадные силы, ведущие к лучшей организации, к лучшему функционированию человеческого коллектива, то есть к социализму. Организация и регулирование индивидуальных действий стали механической необходимостью, независимо от социальных теорий. Если начать с государственного контроля над банками, затем перейти к контролю над транспортом, над тяжелой промышленностью, над промышленностью вообще, над торговлей и т.д., то такой всеобъемлющий контроль будет равносилен государственной собственности на все отрасли народного хозяйства. Это и будет процессом социализации. Ведь социализм, с одной стороны, и индивидуализм - с другой, не являются такими же антиподами, как черное и белое. Между ними имеется много промежуточных стадий. Имеется индивидуализм, граничащий с бандитизмом, и имеется дисциплинированность и организованность, равносильная социализму. Осуществление планового хозяйства зависит в значительной степени от организаторов хозяйства, от квалифицированной технической интеллигенции, которую можно, шаг за шагом, завоевать на сторону социалистических принципов организации. А это самое главное. Ибо сначала - организация, затем - социализм. Организация является наиболее важным фактором. Без организации идея социализма - всего лишь идея. Сталин. Непримиримого контраста между индивидуумом и коллективом, между интересами отдельной личности и интересами коллектива не имеется, не должно быть. Его не должно быть, так как коллективизм, социализм не отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива. Социализм не может отвлекаться от индивидуальных интересов. Дать наиболее полное удовлетворение этим личным интересам может только социалистическое общество. Более того, социалистическое общество представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности. В этом смысле непримиримого контраста между ”индивидуализмом” и социализмом нет. Но разве можно отрицать контраст между классами, между классом имущих, классом капиталистов, и классом трудящихся, классом пролетариев? С одной стороны, класс имущих, в руках которых банки, заводы, рудники, транспорт, плантации в колониях. Эти люди не видят ничего, кроме своего интереса, своего стремления к прибыли. Они не подчиняются воле коллектива, они стремятся подчинить любой коллектив своей воле. С другой стороны, класс бедных, класс эксплуатируемых, у которых нет ни фабрик, ни заводов, ни банков, которые вынуждены жить продажей своей рабочей силы капиталистам и которые лишены возможности удовлетворить свои самые элементарные потребности. Как можно примирить такие противоположные интересы и устремления? Насколько я знаю, Рузвельту не удалось найти путь к примирению этих интересов. Да это и невозможно, как говорит опыт. Впрочем, Вы знакомы с положением в Соединенных Штатах лучше, чем я, так как я в США не бывал и слежу за американскими делами преимущественно по литературе. Но у меня есть кое-какой опыт по части борьбы за социализм, и этот опыт говорит мне: если Рузвельт попытается действительно удовлетворить интересы класса пролетариев за счет класса капиталистов, последние заменят его другим президентом. Капиталисты скажут: президенты приходят и уходят, а мы, капиталисты, остаемся; если тот или иной президент не отстаивает наших интересов, найдем другого. Что может противопоставить президент воле класса капиталистов? Уэллс. Я возражаю против этой упрощенной классификации человечества на бедных и богатых. Конечно, есть категория людей, стремящихся к наживе. Но разве этих людей не считают точно так же, как и здесь, помехой? Разве на Западе мало людей, для которых нажива не цель, которые обладают известными средствами, хотят их инвестировать, получают от этого прибыль, но совсем не в этом видят цель своей деятельности? Эти люди рассматривают инвестирование средств как неудобную необходимость. Разве мало талантливых и преданных инженеров, организаторов хозяйства, деятельность которых движется стимулами совсем иными, чем нажива? По-моему, имеется многочисленный класс попросту способных людей, сознающих неудовлетворительность нынешней системы и призванных сыграть большую роль в будущем, социалистическом обществе. Я много занимался последние годы и много думал о необходимости пропаганды идей социализма и космополитизма в широких кругах инженеров, летчиков, в военно-технических кругах и т.д. Подходить к этим кругам с прямолинейной пропагандой классовой борьбы - бесцельно. Это круги, понимающие, в каком состоянии находится мир, превращающийся в кровавое болото, но эти круги считают ваш примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом. Сталин. Вы возражаете против упрощенной классификации людей на богатых и бедных. Конечно, есть средние слои, есть и та техническая интеллигенция, о которой Вы говорите и в среде которой есть очень хорошие, очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых, и отвлечься от этого основного деления и от противоречия между бедными и богатыми - значит отвлечься от основного факта. Я не отрицаю наличия промежуточных слоев, которые либо становятся на сторону одного из двух борющихся между собой классов, либо занимают в этой борьбе нейтральную или полунейтральную позицию. Но, повторяю, отвлечься от этого основного деления общества и этой основной борьбы между двумя основными классами - значит игнорировать факты. Эта борьба идет и будет идти. Исход этой борьбы решается классом пролетариев, классом работающих. Уэллс. Но разве мало небедных людей, которые работают и работают продуктивно? Сталин. Конечно, имеются и мелкие земледельцы, ремесленники, мелкие торговцы, но не эти люди определяют судьбы стран, а те трудящиеся массы, которые производят все необходимое для общества. Уэллс. Но ведь имеются очень различные капиталисты. Имеются такие, которые только думают о профите, о наживе, имеются и такие, которые готовы на жертвы. Например - старый Морган: этот думал только о наживе, он был попросту паразитом на теле общества, он лишь аккумулировал в своих руках богатства. Но вот возьмите Рокфеллера: он блестящий организатор, он дал пример организации сбыта нефти, достойный подражания. Или Форд: конечно, Форд себе на уме, он эгоистичен, но не является ли он страстным организатором рационального производства, у которого и вы учитесь? Я хотел бы подчеркнуть, что за последнее время в англосаксонских странах произошел по отношению к СССР серьезный перелом в общественном мнении. Причиной этому является в первую очередь позиция Японии и события в Германии. Но есть и другие причины, не вытекающие из одной только международной политики. Есть причина более глубокая, осознание широкими кругами того факта, что система, покоящаяся на частной наживе, рушится. И в этих условиях, мне кажется, что надо не выпячивать антагонизм между двумя мирами, а стремиться сочетать все конструктивные движения, все конструктивные силы в максимально возможной степени. Мне кажется, что я левее Вас, мистер Сталин, что я считаю, что мир уже ближе подошел к изжитию старой системы. Сталин. Когда я говорю о капиталистах, которые стремятся лишь к профиту, к наживе, я этим вовсе не хочу сказать, что это - последние люди, ни на что иное не способные. У многих из них несомненно крупные организаторские способности, которые я и не думаю отрицать. Мы, советские люди, многому у капиталистов учимся. И Морган, которому Вы даете такую отрицательную характеристику, являлся, безусловно, хорошим, способным организатором. Но если Вы говорите о людях, готовых реконструировать мир, то их, конечно, нельзя найти в среде тех, которые верой и правдой служат делу наживы. Мы и эти люди находимся на противоположных полюсах. Вы говорите о Форде. Конечно, он способный организатор производства. Но разве Вам неизвестно его отношение к рабочему классу, разве Вы не знаете, сколько рабочих он зря выбрасывает на улицу? Капиталист прикован к профиту, его никакими силами оторвать от него нельзя. И капитализм будет уничтожен не ”организаторами” производства, не технической интеллигенцией, а рабочим классом, ибо эта прослойка не играет самостоятельной роли. Ведь инженер, организатор производства работает не так, как он хотел бы, а так, как ему прикажут, как велит интерес хозяина. Есть, конечно, исключения, есть люди из этой прослойки, которые освободились от дурмана капитализма. Техническая интеллигенция может в определенных условиях творить ”чудеса”, приносить человечеству громадную пользу. Но она же может приносить и большой вред. Мы, советские люди, имеем свой немалый опыт с технической интеллигенцией. После Октябрьской революции определенная часть технической интеллигенции не захотела участвовать в строительстве нового общества, противилась этому строительству, саботировала его. Мы всячески стремились включить техническую интеллигенцию в это строительство, подходили к ней и так, и этак. Прошло немало времени, прежде чем наша техническая интеллигенция стала на путь активной помощи новому строю. Ныне лучшая ее часть - в первых рядах строительства социалистического общества. Мы, имея этот опыт, далеки от недооценки как положительных, так и отрицательных сторон технической интеллигенции, и мы знаем, что она может и повредить, и творить ”чудеса”. Конечно, дело обстояло бы иначе, если можно было бы единым ударом оторвать духовно техническую интеллигенцию от капиталистического мира. Но это - утопия. Разве много найдется людей из технической интеллигенции, которые решатся порвать с буржуазным миром и взяться за реконструкцию общества? Как, по-Вашему, много ли есть таких людей, скажем, в Англии, во Франции? Нет, мало имеется охотников порвать со своими хозяевами и начать реконструкцию мира! Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне кажется, господин Уэллс, что Вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что он вообще выпадает из Вашей концепции. Ведь что могут сделать люди даже с наилучшими намерениями, если они не способны поставить вопрос о взятии власти и не имеют в руках власти? Они могут в лучшем случае оказать содействие тому новому классу, который возьмет власть, но сами перевернуть мир они не могут. Для этого требуется большой класс, который заменил бы класс капиталистов и стал бы таким же полновластным хозяином, как он. Таким классом является рабочий класс. Конечно, надо принять помощь технической интеллигенции и надо в свою очередь оказать ей помощь. Но не надо думать, что она, техническая интеллигенция, может сыграть самостоятельную историческую роль. Переделка мира есть большой, сложный и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. Большому кораблю большое плавание. Уэллс. Да, но для большого плавания требуются капитан и навигатор. Сталин. Верно, но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела. Уэллс. Большой корабль - это человечество, а не класс. Сталин. Вы, господин Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии. Уэллс. Я припоминаю, как обстояло дело с технической интеллигенцией несколько десятилетий тому назад. Тогда технической интеллигенции было мало, зато дела было много и каждый инженер, техник, интеллигент находил применение своим знаниям. Поэтому это был наименее революционный класс. Ныне же наблюдается избыток технической интеллигенции и настроение ее круто изменилось. Квалифицированный интеллигент, который ранее никогда не стал бы даже прислушиваться к революционным разговорам, теперь очень ими интересуется. Недавно я был приглашен на обед Королевского Общества, нашего крупнейшего английского научного общества. Речь председателя была речью в пользу социального планирования и научного управления. Лет тридцать тому назад там не стали бы даже слушать того, что я говорю. А теперь во главе этого общества стоит человек с революционными взглядами, настаивающий на научной реорганизации человеческого общества. Ваша пропаганда классовой борьбы не посчиталась с этими фактами. Настроения меняются. Сталин. Да, я это знаю, и объясняется это тем, что капиталистическое общество находится теперь в тупике. Капиталисты ищут и не могут найти такого выхода ив этого тупика, который был бы совместим с достоинством этого класса, с интересами этого класса. Они могут частично выкарабкаться из кризиса на четвереньках, но такого выхода, через который они могли бы выйти с высоко поднятой головой, который не нарушал бы в корне интересов капитализма, они найти не могут. Это, конечно, чувствуют широкие круги технической интеллигенции. Значительная часть ее начинает осознавать общность интересов с тем классом, который способен указать выход из тупика. Уэллс. Вы, мистер Сталин, лучше, чем кто-либо иной, знаете, что такое революция, и притом на практике. Восстают ли когда-либо массы сами? Не считаете ли Вы установленной истиной тот факт, что все революции делаются меньшинством? Сталин. Для революций требуется ведущее революционное меньшинство, но самое талантливое, преданное и энергичное меньшинство будет беспомощно, если не будет опираться на хотя бы пассивную поддержку миллионов людей. Уэллс. Хотя бы пассивную? Может быть, подсознательную? Сталин. Частично и на полуинстинктивную, и на полусознательную поддержку, но без поддержки миллионов самое лучшее меньшинство бессильно. Уэллс. Я слежу за коммунистической пропагандой на Западе, и мне кажется, что эта пропаганда в современных условиях звучит весьма старомодно, ибо она является пропагандой насильственных действий. Эта пропаганда насильственного свержения общественного строя была уместной тогда, когда речь шла о безраздельном господстве той или иной тирании. Но в современных условиях, когда господствующая система все равно рушится, и без того разлагается, надо было бы делать ударение не на инсуррекции, а на эффективности, на компетентности, на производительности. Инсуррекционная нотка кажется мне устаревшей. С точки зрения конструктивно мыслящих людей, коммунистическая пропаганда на Западе представляется помехой. Сталин. Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации Вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но Вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим всегда была борьбой, борьбой на жизнь и смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили к власти, им надо было защищаться от попыток старого мира вернуть силой старый порядок, им, людям нового мира, всегда надо было быть настороже, быть готовыми дать отпор покушениям старого мира на новый порядок. Да, Вы правы, когда говорите, что старый общественный строй рушится, но он не рухнет сам собой. Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что Вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них никак не подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты Говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки, которыми вы свергнете этот строй. Как видите, процесс смены одного общественного строя другим является для коммунистов процессом не просто стихийным и мирным, а процессом сложным, длительным и насильственным. Коммунисты не могут не считаться с фактами. Уэллс. Но присмотритесь к тому, что происходит сейчас в капиталистическом мире. Ведь это не просто крушение строя. Это-взрыв реакционного насилия, вырождающегося в прямой гангстеризм. И мне кажется, что когда речь идет о конфликтах с этими реакционными и неумными насильниками, социалисты должны апеллировать к закону и вместо того, чтобы рассматривать полицию как врага, поддерживать ее в борьбе с реакционерами. Мне кажется, что нельзя просто действовать методами старого, негибкого инсуррекционного социализма. Сталин. Коммунисты исходят из богатого исторического опыта, который учит, что отжившие классы добровольно не уходят с исторической сцены. Вспомните историю Англии XVII века. Разве не говорили многие, что сгнил старый общественный порядок? Но разве, тем не менее, не понадобился Кромвель, чтобы его добить силой? Уэллс. Кромвель действовал, опираясь на конституцию и от имени конституционного порядка. Сталин. Во имя конституции он прибегал к насилию, казнил короля, разогнал парламент, арестовывал одних, обезглавливал других! Но возьмем пример из нашей истории. Разве не ясно было в течение долгого времени, что царский порядок гниет, что он рушится? Сколько крови, однако, понадобилось, чтобы его свалить! А Октябрьская революция? Разве мало было людей, которые знали, что только мы, большевики, указываем единственно правильный выход? Разве непонятно было, что сгнил русский капитализм? Но Вы знаете, как велико было сопротивление, сколько крови было пролито, чтобы отстоять Октябрьскую революцию от всех врагов, внутренних и внешних? Или возьмем Францию конца XVIII века. Задолго до 1789 года было ясно многим, насколько прогнили королевская власть, крепостные порядки. Но не обошлось, не могло обойтись без народного восстания, без столкновения классов. В чем же дело? Дело в том, что классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Убедить их в этом невозможно. Им кажется, что трещины в прогнившем здании старого строя можно заделать, что можно отремонтировать и спасти рушащееся здание старого порядка. Поэтому гибнущие классы берут в руки оружие и всеми средствами начинают отстаивать свое существование как господствующего класса. Уэллс. Но во главе Великой французской революции стояло немало адвокатов. Сталин. Разве Вы отрицаете роль интеллигенции в революционных движениях? Разве Великая французская революция была адвокатской революцией, а не революцией народной, которая победила, подняв громадные народные массы против феодализма и отстаивая интересы третьего сословия? И разве адвокаты из числа вождей Великой французской революции действовали по законам старого порядка, разве не ввели они новую, буржуазную революционную законность? Богатый исторический опыт учит, что добровольно до сих пор ни один класс не уступал дорогу другому классу. Нет такого прецедента в мировой истории. И коммунисты усвоили этот исторический опыт. Коммунисты приветствовали бы добровольный уход буржуазии. Но такой оборот дел невероятен, как говорит опыт. Поэтому коммунисты хотят быть готовыми к худшему и призываю! рабочий класс к бдительности, к боевой готовности. Кому нужен полководец, усыпляющий бдительность своей армии, полководец, не понимающий, что противник не сдастся, что его надо добить? Быть таким полководцем - значит обманывать, предавать рабочий класс. Вот почему я думаю, что то, что кажется Вам старомодным, на самом деле является мерой революционной целесообразности для рабочего класса. Уэллс. Я вовсе не отрицаю необходимости насилия, но считаю, что формы борьбы должны быть максимально близки к тем возможностям, которые даются существующими законами, которые надо защищать от реакционных покушений. Старый порядок не надо дезорганизовать уже потому, что он в достаточной степени сам дезорганизуется. Именно поэтому мне кажется, что борьба против порядка, против закона есть нечто устаревшее, старомодное. Впрочем, я нарочно утрирую, чтобы ярче выяснить истину. Я могу сформулировать свою точку зрения следующим образом: во-первых, я за порядок; во-вторых, я нападаю на существующую систему, поскольку она не обеспечивает порядка; в-третьих, я считаю, что пропаганда идей классовой борьбы может изолировать от социализма как раз те образованные круги, которые нужны для социализма. Сталин. Чтобы совершить большое, серьезное общественное дело, нужно, чтобы была налицо главная сипа, опора, революционный класс. Нужно далее, чтобы была организована помощь этой главной силе со стороны вспомогательной силы, которой является в данном случае партия, куда войдут и лучшие силы интеллигенции. Вы только что говорили об ”образованных кругах”. Но каких образованных людей Вы имели в виду? Разве мало было образованных людей на стороне старого порядка и в XVII веке в Англии, и в конце XVII века во Франции, и в эпоху Октябрьской революции в России? Старый строй имел на своей стороне, на своей службе много высокообразованных людей, которые защищали старый строй, которые шли против нового строя. Ведь образование- это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках, кого этим оружием хотят ударить. Конечно, пролетариату, социализму нужны высокообразованные люди. Ведь ясно, что не олухи царя небесного могут помогать пролетариату бороться за социализм, строить новое общество. Роль интеллигенции я не недооцениваю, ее роль я, наоборот, подчеркиваю. Дело только в том, о какой интеллигенции идет речь, ибо интеллигенты бывают разные. Уэллс. Не может быть революции без коренного изменения в системе народного образования. Достаточно привести два примера: пример германской республики, не тронувшей старой системы образования и поэтому не ставшей никогда республикой, и пример английской лейбористской партии, у которой не хватает решимости настоять на коренном изменении системы народного просвещения. Сталин. Это правильное замечание. Позвольте теперь ответить на Ваши три пункта. Во-первых, главное для революции - это наличие социальной опоры. Этой опорой для революции является рабочий класс. Во-вторых, необходима вспомогательная сила, то, что называется у коммунистов партией. Сюда войдут и интеллигентные рабочие и те элементы из технической интеллигенции, которые тесно связаны с рабочим классом. Интеллигенция может быть сильна, только если соединится с рабочим классом. Если она идет против рабочего класса, она превращается в ничто. В-третьих, нужна власть как рычаг преобразования. Новая власть создает новую законность, новый порядок, который является революционным порядком. Я стою не за всякий порядок. Я стою за такой порядок, который соответствует интересам рабочего класса. Если же некоторые законы старого строя могут быть использованы в интересах борьбы за новый порядок, то следует использовать и старую законность. Против Вашего положения о том, что надо нападать на существующую систему, поскольку она не обеспечивает необходимого для народа порядка, я ничего возразить не могу. И, наконец, Вы не правы, если думаете, что коммунисты влюблены в насилие. Они бы с удовольствием отказались от метода насилия, если бы господствующие классы согласились уступить место рабочему классу. Но опыт истории говорит против такого предположения. Уэллс. В истории Англии, однако, был пример добровольной передачи власти одним классом другому. В период между 1830 и 1870 годами произошел без всякой ожесточенной борьбы процесс добровольного перехода власти от аристократии, влияние которой к концу XVIII века было еще очень велико, к буржуазии, которая являлась сангименгальной опорой монархии. Этот переход власти привел в дальнейшем к установлению господства финансовой олигархии. Сталин. Но Вы незаметно перешли от вопросов революции к вопросам реформы. Это не одно и то же. Не думаете ли Вы, что большую роль в деле реформ в Англии в XIX веке сыграло чартистское движение? Уэллс. Чартисты мало что сделали и исчезли бесследно. Сталин. Я с Вами не согласен. Чартисты и организованное ими забастовочное движение сыграли большую роль, заставили господствующие классы пойти на ряд уступок в области избирательной системы, в области ликвидации так называемых ”гнилых местечек”, осуществления некоторых пунктов ”хартии”. Чартизм сыграл свою немалую историческую роль и побудил одну часть господствующих классов на некоторые уступки, на реформы во имя избежания больших потрясений. Вообще надо сказать, что из всех господствующих классов господствующие классы Англии - и аристократия, и буржуазия - оказались наиболее умными, наиболее гибкими с точки зрения своих классовых интересов, с точки зрения сохранения своей власти. Возьмем пример хотя бы из современной истории: всеобщую забастовку 1926 года в Англии. Любая буржуазия перед лицом этих событий, когда генеральный совет тред-юнионов призвал к забастовке, прежде всего арестовала бы лидеров тред-юнионов. Английская буржуазия этого не сделала и поступила умно с точки зрения своих интересов. Ни в США, ни в Германии, ни во Франции я не мыслю себе подобной гибкой классовой стратегии со стороны буржуазии. В интересах утверждения своего господства господствующие классы Англии никогда не зарекались от мелких уступок, от реформ. Но было бы ошибочным думать, что эти реформы представляют революцию. Уэллс. Вы более высокого мнения о господствующих классах моей страны, чем я. Но велика ли вообще разница между малой революцией и большой реформой, не являются ли реформы малой революцией? Сталин. В результате напора снизу, напора масс буржуазия иногда может идти на те или иные частичные реформы, оставаясь на базе существующего общественно-экономического строя. Поступая так, она считает, что эти уступки необходимы в интересах сохранения своего классового господства. В этом суть реформ. Революция же означает переход власти от одного класса к другому. Поэтому нельзя называть какую бы то ни было реформу революцией. Вот почему не приходится рассчитывать на то, чтобы смена общественных строев могла произойти в порядке незаметного перехода от одного строя к другому путем реформ, путем уступок господствующего класса. Уэллс. Я Вам очень благодарен за эту беседу, имеющую для меня громадное значение. Давая мне Ваши разъяснения, Вы, наверное, вспомнили о том, как в подпольных дореволюционных кружках Вам приходилось объяснять основы социализма. В настоящее время во всем мире имеются только две личности, к мнению, к каждому слову которых прислушиваются миллионы: Вы и Рузвельт. Другие могут проповедовать сколько угодно, их не станут ни печатать, ни слушать. Я еще не могу оценить то, что сделано в Вашей стране, в которую я прибыл лишь вчера. Но я видел уже счастливые лица здоровых людей, и я знаю, что у Вас делается нечто очень значительное. Контраст по сравнению с 1920 годом поразительный. Сталин. Можно было бы сделать еще больше, если бы мы, большевики, были поумнее. Уэллс. Нет, если бы вообще умнее были человеческие существа. Не мешало бы выдумать пятилетку по реконструкции человеческого мозга, которому явно не хватает многих частиц, необходимых для совершенного социального порядка. Сталин. Не собираетесь ли побывать на съезде Союза советских писателей? Уэллс. К сожалению, у меня имеются разные обязательства и я смогу остаться в СССР только неделю. Я приехал, чтобы встретиться с Вами, и я глубоко удовлетворен нашей беседой. Но я собираюсь говорить с теми советскими писателями, с которыми я смогу встретиться, о возможности их вступления в Пен-Клуб. Это - международная организация писателей, основанная Голсуорси, после смерти которого я стал председателем. Организация эта еще слабая, но все же имеет секции во многих странах, и, что еще важнее, выступления ее членов широко освещаются в печати. Эта организация настаивает на праве свободного выражения всех мнений, включая оппозиционные. Я рассчитываю поговорить на эту тему с Максимом Горьким. Однако я не знаю, может ли здесь быть представлена такая широкая свобода. Сталин. Это называется у нас, у большевиков, ”самокритикой”. Она широко применяется в СССР. Если у Вас имеются какие-либо пожелания, я Вам охотно помогу. Уэллс. Благодарит. Сталин. Благодарит за беседу. Источник: http://www.diary.ru/~gamajun/p93617702.htm Дата публикации: 22 Январь 2010 Сообщение отредактировал Игорь Львович - 9.3.2010, 15:08 |
|
|
|
 10.3.2010, 4:06 10.3.2010, 4:06
Сообщение
#67
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Геок-тепе
Пролом в южном фасе насыпного вала крепости Геок-Тепе после штурма 24 января 1881 года 1881 год. 24 января (12 января ст.ст.) русская армия под командованием генерала М.Скобелева штурмом взяла крепость Геок-тепе Туркменские солдаты. Фотография 1881 года «Геок-тепе - название трех селений в Ахалтекинском уезде Закаспийской области, расположенных невдалеке от станции Г.-тепе Закаспийской жел. дор. (406 верст от Узун-Ада, на высоте 7455 футов над уровне Каспийского моря) и населенных около 1200 кибиток туркмен-текке. Тут же находятся развалины обширного укрепления, построенного текинцами для обороны оазиса против вторжения русских и названного ими Янги-Шаар, но более известного под именем Г.-тепе (Денгиль-тепе) со времени взятия его в 1881 г. русскими войсками. Падение Г.-т. имело громадное значение для скорейшего усмирения туркмен; оно доставило нам обладание всем Ахалтекинским оазисом и не осталось без влияния на мирное присоединение к России Мерва. В 1878 г. вследствие беспрестанных набегов текинцев на аулы подвластных нам юмудов и грабежа караванов русские войска для водворения спокойствия в крае выступили под командой генерала Ломакина из Чикишляра, заняли Чат (при слиянии Атрека с Сумбаром), устроили здесь укрепление и оставили в нем небольшой гарнизон. Цель этим не была достигнута: текинцы постоянно бродили кругом Чата и даже сделали нападение на Чикишляр. Вследствие этого признано было необходимым занять более удобный стратегический пункт. Отряд силой в 7310 человек пехоты, 2900 кавалерии и 34 орудий был разделен на две части: для вторжения предназначались 4 тыс. пехоты, 2 тыс. кавалерии и 16 орудий под командой генерал-лейтенанта Лазарева; остальные войска должны были обеспечивать сообщение с базисом. Пока прибывали в Чикишляр перевозочные средства, передовой отряд занял 17 июня 1879 г. Дуз-Олум, затем Кары-кала и в конце месяца — Терсакан. 30 июля отряд выступил из Чикишляра, а 8 августа авангард занял Бендесен. Неприятельская кавалерия показалась только у Ходжакала и после незначительной перестрелки отступила к селу Беурма. Текинцы решили защищаться до последней капли крови и поспешно стали строить укрепление Г.-тепе, но к приходу русских работы далеко еще не были закончены; местами стены были настолько низки, что виднелись кибитки. 14 августа генерал Лазарев умер, и место его занял генерал Ломакин. 21-го отряд, сосредоточившись в Бендесене, направился в Бами. Вследствие недостатка перевозочных средств для обеспечения магазинов в Бендесене и Ходжа-кала оставлено было более войск, чем следовало. 28 августа решено было штурмовать Г.-тепе. Силы текинцев, по догадкам, простирались до 15 тысяч; неприятель стоял в укреплении и был обеспечен массой продовольствия. Против этих сил русские могли выставить только 6 батальонов и 8 эскадронов и сотен, причем от истощения и болезней число наличных солдат уменьшилось более чем наполовину: в батальоне насчитывали до 200 человек. Точных рекогносцировок произведено не было, вследствие чего были атакованы самые сильные фронты; продовольствие имелось в весьма ограниченном количестве. В 5 часов дня, после успешного действия 8 орудий, генерал Ломакин двинул в атаку одновременно все силы. Несмотря на чудеса храбрости, наши войска не могли овладеть укреплением и потеряли одними убитыми 453 человека; урон неприятеля — до 2 тыс. человек. Утром 29 августа отряд отошел к Кары-карызу. Недостаток продовольствия не дозволил генералу Ломакину оставаться в оазисе, хотя многие предлагали ему произвести бомбардирование крепости и тем заставить ее сдаться. После отступления генерала Ломакина дерзости текинцев не было пределов; они грабили караваны и угоняли скот даже из-под Чикишляра. Вследствие этого было решено предпринять второй поход для покорения оазиса. Стоимость его, не считая постройки паровой железной дороги, была исчислена в 10 млн. руб. Генерал Скобелев, поставленный во главе экспедиции, обратил особое внимание на успешную перевозку грузов и, главным образом, на заготовку верблюдов. Далее Скобелев стал деятельно заботиться о снабжении отряда всем необходимым как в боевом, так и в продовольственном отношении. Была сильно увеличена артиллерия, патронов и снарядов определено 5 комплектов; устроен телеграф, в помощь которому дан гелиограф, принесший весьма существенную пользу. Кормить солдат велено как нельзя лучше, не жалея провианта. Устроены госпитали, организовано инженерное управление. Несмотря на все усилия Скобелева, дело сильно тормозилось как неприбытием вовремя верблюдов, так и серьезными делами с текинцами, которые постоянно тревожили наши войска. После прибытия достаточного количества верблюдов (паровая жел. дор. была выстроена от Михайловского залива до Бала-Ишема, а далее до Айдина шла конножел. дор.), провианта и подкреплений 21 ноября 1880 г. было приступлено к осаде Г.-тепе. Число защитников его, по имевшимся сведениям, доходило до 30 тысяч (10 тыс. конницы и 20 тыс. пехоты). 12 января 1881 г., после отчаянного сопротивления, Г.-тепе было взято штурмом. Преследование неприятеля в песках продолжалось на 15 верст. Победа была полная, текинцы никогда еще не испытывали такого погрома. Наша потеря — 398 человек, в том числе 36 офицеров. Дальнейшего сопротивления не было, и наши войска дошли без выстрела до Люфтабада. Текинцы отступили в пески, где расположились у колодцев. Для преследования их был послан отряд, сделавший до 500 верст в пустыне; на обязанность его было возложено уничтожить сопротивляющихся, обезоружить и вернуть обратно изъявивших покорность. Текинцы постепенно стали возвращаться, чему способствовало ласковое с ними обращение и то, что в укреплении оставались взятые в плен их семейства. Успехом этой замечательной экспедиции Россия обязана генералу Скобелеву и нашим славным войскам. С необыкновенным умением Скобелев обеспечил отряд продовольствием, сберег здоровье солдат и, отвлекая неприятеля от слабого пункта экспедиции — тыла, достиг полной победы и окончательного замирения края». Цитируется по: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Спб: Издательское общество Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. 1890-1907 гг. История в лицах ________________________________________ В.И.Немирович-Данченко: По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, "руководимый неопытными начальниками". Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года, в то время как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе, - вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей-разбойников... Цитируется по: Немирович-Данченко В.И. Скобелев. М.: Воениздат, 1993 Ссылки по теме Геок-Тепе http://perevodika.ru/articles/10005.html?phrase_id=60982 http://perevodika.ru/articles/10001.html?phrase_id=60982 http://perevodika.ru/articles/9996.html?phrase_id=60982 Сообщение отредактировал Игорь Львович - 10.3.2010, 6:30 |
|
|
|
 11.3.2010, 7:03 11.3.2010, 7:03
Сообщение
#68
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Толстой В. С. Характеристики русских генералов на Кавказе / Публ. [вступ. ст. и примеч.] В. М. Безотосного // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв
После окончания войн с Наполеоном Бонапартом многие участники кампаний 1812—1815 гг. продолжили боевую службу на Кавказе. Публикуемые мемуарные заметки дают возможность проследить биографии и военные карьеры лиц, активно действовавших во время покорения Кавказа. Интересна фигура самого мемуариста — Владимира Сергеевича Толстого, имевшего за плечами насыщенную событиями и крутыми поворотами судьбы биографию*. Он родился 10 мая 1806 г. в семье гвардии капитан-поручика Сергея Васильевича Толстого (1771—1831). Семья принадлежала к нетитулованной ветви Толстых, но благодаря матери — урожденной княжне Елизавете Петровне Долгорукой (1774—1813), Толстой находился в родстве с представителями многих знатных дворянских родов России. Он получил домашнее воспитание под руководством гувернеров француза Куант де Лаво и англичанина Гарвея. Приглашались также русские преподаватели: московский священник Покровский, учитель гимназии Кудрявцев и студент Брезгун. Основными предметами были история, география, иностранные языки, математика. Русскому языку, по обычаю дворянских семей того времени, уделялось не много внимания. Сохранившиеся письма Толстого к разным лицам написаны в основном по-французски. Вступив в военную службу в 1823 г. и уже будучи прапорщиком Московского пехотного полка, входившего в состав 5-го корпуса, Толстой оказался замешан в 1825 г. в делах тайных обществ. В 1826 г. он был осужден Верховным уголовным судом по VII разряду на два года каторги с последующим поселением в Сибири. Благодаря стараниям влиятельных родственников в 1829 г. Толстой одним из первых по Высочайшей воле был переведен рядовым на Кавказ, где и протекала его последующая служба. В 1833 г. его произвели в унтер-офицеры, в 1835 г. — в прапорщики, в 1837 г. — в подпоручики, в 1839 г. за отличие в делах против горцев — в поручики. Служебному продвижению Толстого в немалой степени способствовал женатый на его двоюродной сестре Елизавете Павловне (урожденной Фонвизиной) Е. А. Головин, в то время главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом. Именно по его просьбам офицера «из государственных преступников» (как записано в формулярном списке) прикомандировывали к штабам русских генералов. После снятия Головина Толстой в 1843 г. вышел в отставку, но ненадолго. В 1845 г., видимо, из-за отсутствия средств к существованию он вновь поступает на военную службу на Кавказе, а в 1849 г. переводится там же на гражданскую службу. Став чиновником для особых поручений при наместнике Кавказа М. С. Воронцове, Толстой продолжал служить до 1856 г., когда амнистия освободила всех декабристов от ограничений. Выйдя в отставку с чином надворного советника, он поселился в имении Бараново Подольского уезда Московской губернии, полученном им по наследству от тетки, княгини Елены Васильевны Хованской. Там он и скончался 27 февраля 1888 г. и был похоронен в с. Переделиц. С 1864 по 1884 г. в исторических журналах появилось несколько сочинений Толстого. Но не все им написанное попало на страницы печати. В 1955 г. С. В. Житомирская опубликовала часть его воспоминаний и замечания на книгу А. Е. Розена «Записки декабриста», найденные в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина*. Там же хранились и публикуемые заметки о генералах на Кавказе (Ф. 178 «Музейное собрание». Д. 4629а). Видимо, характер этих записей мало соответствовал декабристскому прошлому Толстого, а кавказская тема находилась под запретом. Составленные Толстым характеристики русских генералов (иногда весьма резкие и злые) нуждаются в некоторых пояснениях. Автор не скрывал своего негативного отношения к «немцам», в силу чего лица с немецкими фамилиями очерчены им предвзято. Он также не смог завуалировать своей неприязни к людям, замешанным в смуте 1825 г., но вышедшим «сухими из воды» и продолжившим карьеру в «николаевское время» (Н. Н. Раевский, Н. Х. Граббе). Давая оценки другим, Толстой невольно характеризует и самого себя. В его воспоминаниях присутствуют высокая самооценка и завышенные требования к другим, отчетливо проступает ощущение невостребованности личных дарований и недовольство переломанной 1825 г. судьбой. Однако здесь уместно привести и редкие мнения о Толстом его сослуживцев по Кавказу. М. Ф. Федоров, описывая свой армейский быт, так характеризует Толстого: «...никогда ничем не занимался, только напевал, да насвистывал куплетики и курил постоянно сигару...»**. Другой его сотоварищ по Кабардинскому егерскому полку И. фон дер Ховен отнесся к нему более жестко: «Личность простоватая, ничем себя особенно не ознаменовавшая. Заметно, что слабая натура и не выдержала жестоких ударов судьбы и он видимо склонялся под их тяжким бременем»***. Г. И. Филипсон выставил Толстого в несколько комичном виде при описании вызова «то на дуэль полковником Энгштремом де Ревельштадтом. В целом же он оставил нелестный отзыв: «...наружность его, голос и манеры были крайне несимпатичны; нравственные принципы его были более чем шатки... Специальность его сказалась уже при графе Воронцове... сделался шпионом, сыщиком, доносчиком и всем, что нравилось его патрону; он был посылаем секретно в разные места, переодевался, посещал кабаки и харчевни, где собирал разные сведения и где не раз был оскорбляем телесно»****. Следы конфликта Толстого с окружавшими его людьми можно найти и в мнении его родственника и покровителя Головина. В сохранившемся рекомендательном письме к генералу Н. Н. Раевскому, беря Толстого под защиту, он писал, что тот «сделался жертвою блестящего начала первой своей юности, начала, которое в других краях европейских, может быть открыло бы ему путь к дальнейшим успехам в житейском быту, но не у нас, где молодым людям надобно давать направление другое и которое, к сожалению, не весьма многие уразуметь способны»*****. Публикуемые воспоминания Толстого представляют собой авторскую рукопись на 36 листах. На листах 1, 9, 14, 31 и 33 остались печати Сычевского музея при отделе народного образования. Оттуда сочинение поступило в Отдел рукописей в 1920 г. Временные рамки написания определяются последней крайней датой, упомянутой Толстым — 1881 г. и его смертью в 1888 г. Текст передается с сохранением грамматических и синтаксических особенностей авторского стиля. БИОГРАФИИ Разных лиц при которых мне приходилось служить или близко знать Князь Федор Александрович Бекович-Черкаской1 Я его застал 29 августа 1829 года в Эрзаруме, начальником Егерской бригады 21 пехотной дивизии, в которую я был определен с прибывшим со мной Бестужевым (Марлинским)2 в, 41 егерской полк. В это время князь Бекович был комендантом Ерзерума. Князь Бекович Черкаской был наследственный владетель3 Малой Кабарды, что казалось странным, потому что мужественный высокой мужчина черты его лица были чисто ногайского пошиба. Относительно прежней жизни князя Федора Александровича мне только известно что он был православный: по черкескому обычаю лет десяти, его отдали на воспитание в дом Аталыка* славившагося своею храбростью, предприимчивостью и мудростью, сомо собой лихим хишником4. Про жизни Бековича у аталыка была молва, что возмужав он самолично собрав шайку хишников предпринял набег в наши границы где и отбил какое стадо, отбитое у него обратно погоною наших лихих линейных кавкаских казаков. Знаю тоже что князь Бекович вступил на службу в Петербурге в царствование Императора Александра «1»го в Лейб Казачий полк5: по производству в генералы он был переведен на Кавказ. В Эрзеруме князь Бекович считался героем Кавказской армии в следствие его подвига занявшая Эрзерум без боя. Во всю свою боевую жизнь, быть может единственно Паскевич внял гласу своих давних сподвижников чьими подвигами забирал себе славу, и в эту войну совершил смелый и опасный стратегический ночной переход чрез Саганлугской горный хребет и утром наш отряд явился в тылу огромного Лагеря Сераскира: последовало полный разгром Турецкой армии и которая с самим Сераскиром спаслась в Эрзерум. Наши доблестные войска без препятственно наступа<ли> к Эрзеруму, без сопротивления заняли крепость Гасан-Кале6 стоящей <и> сооруженной на прекрепкой местности, и наконец стали лагером под самый Эрзерум в катором не имелось достаточно средств для сопротивления, по чему Паскевич послан уведомить Сераскира что на другой день в двенадцать часов дня он его примит в лагере для переговоров о сдаче Эрзерума. У палатки Главнокомандующего собрались весь генералитет и штаб-офицеры в пышных парадных мундирах для встречи Сераскира, каторый и в четыри часа по полудня не прибыл. «Битба русских с кабардинцами» Тогда Паскевич вне себя от негодования обратился к князю Бековичу и приказал ему взять сотню казаков с парламентерским флагом и с трубачем ехать в Ерзерум объявить Сераскиру что если он сей час не явится в наш Лагерь то богатый город7 возьмется на копье, предается разграблению и не останется в нем камень на камень. Князь Бекович как был в шитом генеральском мундире с лентами и орденами сел верхом и в сопровождение своего адъютанта и сотни кавказских казаков направился к Эрзеруму, в которой его безпрепятственно впустили8. Князь Бекович прекрасно и красноречиво говорил по Турецки. Только что он въехал в Эрзерум все население мужчины и старухи его обступили с ревом прося заступничества, чтобы русскии их не разорили и не избили. Бекович отвечал в смысле что русской Главнокомандующий их и прекрасный Эрзерум не пре<м>енно желеет, доказательство тому очевидное, так как турецкая армия разбита на голову до того что не кем защищать город и ничего не было бы легче утром того же дня занять и разграбить Эрзерум, но Главнокомандующий вместо того еще накануне послал пригласить Сераскира прибыть в лагерь для переговора о правильной сдаче города, дабы никто из жителей не подвергся ни малейших убытков и притеснения, но Сераскир не прибыл на приглашение, по этому Главнокомандующий послал его — Бековича, — объявить Сераскиру что если он тот час не прибудит в Русский Лагерь то на разсвете завтрашняго дня начнется Штурм Города, который будит предан грабежу и разорению! по этому всякой поймет что участь Эрзерума и всего его населения зависит не от Русских а от Сераскира! Все возрастающии толпы, дружелюбно, с воплями и мольбами препровождили Бековича до помещения Сераскира состоящаго из двух этажнаго дома окруженнаго открытыми верандами; во втором этаже из приемной дверь на веранду была открыта настиш; в большой зале, служившей приемною, на турецком диване, поджавши ноги сидел Сераскир, окруженный стоящими начальниками его разбитой армии, спасшимися с ним. «Взятие Эрзерума». Литография Э. Гостейна и А. Байо по оригиналу В. Машкова. 1836 г. Бекович со своим адъютантом и казачьим сотенным начальником и казачьими ординарцами, взошел в приемную Сераскира, оставя саму сотню на прилагающей к дому площади, теперь занятую всем населением Эрзерума. Князь подошел к Сераскиру и строго, резко передал ему свое поручение, упрекая его в том что чрез его упрямство или трусость он губит богатый город со всем его населением. Сераскир указывая рукою на Бековича приказал его схватить! Но князь вышел на веранду а вышедшии с ним заняли двери выходящии на веранду обножив свои шашки. Бекович объявил толпе что Сераскир решил ея участь приказав Русского парламентера схватить; за что Русская армия страшно накажет город Эрзерум!9 Вся толпа ринула в дом Сераскира схватила его и всех тут бывших турецких начальников, обезоружила их и передала князю Бековичу не медленно приставивший, к заарестованны<м> караул взятой в казачей сотни, а саблю Сераскира со своим адъютантом отправил к фельдмаршалу. На утро наша армия вошла в замиренный Эрзерум с распущенными знаменами с музыкой и песенниками при радушной встречи поголовнаго населения, спасеннаго города10. Кавказское население гор разделялось на многочисленные племяна не зависимыи друг от друга: иныи из них управлялись строго выборным началом, очень не сложных республик: другии подчинялись самодержавным наследственным владельцам. С давних пор, из самой изуверной Магометанской страны, именно из Бухары, проникали на Кавказским племенам изуверы проповедующих что эти горцы отошли от учения Пророка, и увещевающих возвратиться к строгой спартанской жизни предписанной Кораном. До Турецкой войны «1828»-го года, с нашей стороны война на Кавказе ограничивалась нападением в наших пределах прославившихся наездников собиравших шайки отпетых смельчаков и с ними грабивших и избивавших не только аулы замиренных кавказцов но еще и русскии селении станицы в которых захватывали плен продаваемый в неприступныи горы: после таких прорывов неприятеля наши войска ходили наказывать аулы в которых эти хищники набирались11. Во время же самой Турецкой, с одной стороны оборона наших границ со стороны Кавказских племен значительно ослабела, так войска были оттянуты в Азиатскую Турцию; а с другой стороны Начальствующие Лица удалились со своими частями: Этими обстаятельствами воспользовались Бухарскии приш<е>льцы, и к Мусульманской проповеди стали придавать увещевание жителям вести Казават (священную войну) против Русских. В горах не оказалось недостатка предприимчивых отчаяно храбрых начальников шаек и отношении наши с горцами преимущественно с левой стороны — за Тереком — стороны военно-Грузинской дороги, следуя в Грузию стали боле и боле усложняться. Паскевич не постиг значение этого усложнения событий, и представил в Петербург проэкт покорения Кавказа, прозванный Тифлисским Генеральным Штабом, «проэктом двадцати отрядов»12. По утверждению этого проэкта фельдмаршал сосредоточил не бывалый на Кавказе сбор войск у реки Кубани в земле Черноморских казаков, перешел на ту границу и несколько недель проходил по предгорным степям без цели и решительно без всякой пользы, после чего возвратился в Тифлис героем пышного фиаско13. Когда читаешь этот пошлый «проэкт» особенно теперь когда факты доказали его несостоятельность, и каких усилий и жертв потребовалось для покорения Кавказа, изумляеш<ь>ся как человек не признанный сумашедшим мог подписать нелепость! и рождается сомнение не был ли замысел Тифлисского Генерального Штаба выказать Петербургу всю нелепость и умопомешательство Паскевича, соделавшимся самою нелепою личностью своим хвастовством, шарлатанством и дерзким обращением. Паскевич обратил все внимание которое он только был в состояние вызвать на свой донкихотской проэктированной поход не счел нужным озаботиться об левом фланге и ограничился назначить Федора Александровича Бековича начальником этаго леваго фланга. Князь Бекович — по туземному «Тембот»14 — был очень умный человек, в азиатском смысле, добродушный, прямой, правдивый, самой строгой честности и изумительно хладнокровно храбрый, без малейшей тени европейского воспитания и образования: от рождения крещен в Православие, но с детства окруженный Магометанами, не было возможно вывести заключение, каково он вероисповедания. Не имея понятия ни о стратегии, ни о тактики он однако был не заменим Военно Начальником в Азии, так как его мышление было направлено совершенно одинаково с мышлением и миросозерцанием азиатцев, которыи он всегда отгадывал замыслы, предупреждая их поползновении. «Горец с белой лошадью». Офорт А. Дмитриева-Кавказского по оригиналу Ф. Горшельта. 1874 г. К солдатам князь Бекович был добр, ласков и заботлив о их обеспечение но не умел с ними обходиться, вовсе не зная их превосходныи качества. Как правитель края населенного Азиатцами он был незаменимым так как до мелочей знал обычаи, дух, умственное направлении и характер кавказских туземцев, и соображал со всеми этими нравственными их свойствами, к тому же и уважение к его положению Владетельного князя много содействовало глубокому уважению которые горцы к нему питали15. Князь Федор Александрович был женат по Магометанскому обряду на магометанки слывущей красавицею но не показывающейся мужчинам; детей у него не было16. Я близко знал князя Бековича состоя при нем казначеем сборов с горцов Левого фланга вновь обложенных податью и штрафом за участие в возстании поднятом Казы Муллой17. «Лезгины». Офорт Л. Дмитриева-Кавказского по оригиналу Ф. Горшельта. 1873 г. Этот гениальный Казы Мулла стоит чтобы в крадце его описать как образец судьбы гения, даже среди совершенно дикаго народа. Рожденный в ауле «Гимрин» племени Койсубулинцев, он вышел из школы Мечете родного аула, успешным учеником почему и признан муллою. Скудность его жизненных средств в горах, побудили отправиться в наши пределы, в пограничный город «Кизляр», где оснавал Мусульманскую школу, года два процветавшую; но изобилие средств жизни вовлекли Кази Муллу вкусить сладость кизлярских вин и он спился с круга, почему местные мусульмане перестали посылать своих детей в его школу18. Дошедши до крайности Казы Мулла стал снискивать пропитание в поденной работе в роскошных виноградниках Кизлярских армян, влюбился в дочь садовладельца, у которого постоянно работал поденщиком, воспользовался грозою воробьиной ночи, убил садовладельца, но не успел похитить дочь и не теряя времени бежал в свои родные горы перешел в «Табасарань» и скрылся в горную потаенную пещеру, к бывшему своему учителю, отшельнику в своем ските погруженному в изучение мудрости внесенной Бухарскими изуверами. Этот мудрец считался у горцев Святым19 и народ благоговел к нему, щательно скрывая от преданных нам туземцев его местопребывание в горной трущобы, и тайно посещающи скитника, познали его сожителя и ученика Кази Муллу. По окончании Турецкой войны «1828»-го года, когда Паскевич сосредоточил Кавказские войска для своего бесцельного закубанского похода, близ окраин правого фланга Линии, Бекович прибыл начальником Левого фланга Кавказской линии в за турецкую страну, и в то же время Казы Мулла вышел из пещеры своего наставника, и поднял знамя «Казавата» (священной войны) фанатизируя мусульманское население своими иступленными пылкими проповедями, резко обличая пред горными племенами пороки, распущенность, отступничество от истинного Магометанства и Кривду Владельцов и Правителей Кавказских племен, именем «Аллы» и его пророка «Магомета», убеждая низвергать и убивать не только самих правителей но и их роды поголовно. В сущности Казы Мулла восмечтал из всего горного населения затеречнаго создать Магометанскую республику над которою самому стать президентом первосвященником и для этой цели даже приступил было, в одной из крепчай<шей> местности Гор, среди племен Ауховцов, воздвигать первопрестольную Мечеть, агромных размеров, имеющую служить собором всему мусульманству Кавказа. Князь Бекович всюду самым удачливым образом вел военное дело, когда действовал самостоятельно. Только однажды под начальством командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерала от кавалерии Эмануэля, когда сей генерал ввел отряд составленный из плохих сборных частей в глухую трущобы где сам был ранен, то князь Бекович хотя успел вывесьти этот отряд, 1-го июля 1829-го года20 в крепость Внезапную, но уже разбитый на голову, при огромной потери убитыми и ранеными, и при потери много оружия и двух пушек с их ящиками, в следствие того что князь принял начальство над войском уже совершенно разстроенным, не имевшаго ни одной части и представляющаго толпу смешавшихся воинов. Это не удавшееся дело имело пагубныи последствии естественно потрясшая самонадеянность наших войск и сильно поошривши дерзость неприятеля21: не смотря на это князь Бекович с недостаточным числом войск превосходно прикрывал наши границы и громил неприятеля при всякой встречи несмотря на то что вся 14-я пехотная дивизия в самое это критическое время была вытребована в Рязань, уже не помню, для каково то парада или маневр. Последствия разгрома дела 1-го июля была замена генерала Емануэля генерал-лейтенантом Вельяминовым, бывшим начальником Штаба Кавказского корпуса при незабываемом Алексеи Петровиче Ермолове, превосходно знающий Кавказ, его особенности и войну с Горцами. При Вельяминове князю Бековичу много облегчилось бремя усмирения возстания жителей гор, так как он с Вельяминовым находился в самых дружеских отношениях и в нем постоянно встречал полное содействие своим дельным предположениям22. К военным заслугам князя Бековича должно добавить несравненно плодовитейших для будушности края его труды по устройству управления и положению местных инородцев и на этот труд в последствие принесший такие обильные плоды он настойчиво весь себя пос<в>ятил23. «Поражение персиян при Елисаветполе» Литография Г. Беггрова по оригиналу В. Машкова Конец 1820-х — начало 1830-х годов Все образование князя Бековича состояло в том, что он чисто говорил по русски и на том же языке писал хорошим почерком, остальное его воспитание, было до мелочей все цело черкеское, почему и жизнь его была совершенно азиатскаго пошиба. Он не имел привычки, все свободное от службы время заниматься чем либо умственным, всегда и всюду окруженный своими узденями, — каторыи в сущности были его командирами, — подвластными ему князьями, гостями приезжими из других племен, день проводили в пустой болтовне, осмотре и пробах оружия каторым туземцы обвешились, иногда случалось что под властныи князя Бековича приезжали для судебных разбирательств взаимных тяжб: но князь Бекович не был в состоянии весьти какой либо не служебный и назидательный разговор общественный, никогда не брал в руки какую либо книгу или газету, не имел понятия о картежной игре, в пище и употребление вина был крайне воздержан: политические его возрения и мышления ограничивались Кавказскими вопросами. Он помер в 1829 году24 лет сорока с небольшим в следствии простуды: во время похода в Горной стране позднею осенью, когда уже наступили заморозки, палату его согревали жаровнями; раз ночью, он чтобы освежиться, в одном белье вышел из палатки, чрез меру нагретую и лег на голую землю вследствие чего было воспаление внутренностей положивших его в гроб вопреки всех стараний лучих докторов. Алексей Александрович Вельяминов25 О молодости и воспитание генерал-лейтенанта Вельяминова я ничего не знаю. Лично я стал его знать когда он заменил Емануеля на Кавказской линии, когда ему было лет пятьдесят. Алексей Александрович Вельяминов был человек замечательно образованный, умный, не увлекающийся вспыльчивостью, и постоянно руководствующийся хладнокровною обдуманностью26. Время его воспитания естественно повлияло на его отрицательное направление, и он был что наши отцы называли «Вольтерианиц». Знаю что Вельяминов долго служил в артиллерии в части подчиненной А. П. Ермолову, близко его знавшаго и отличавшаго, почему и выбрал его в своего начальника Кавказского корпуснаго Штаба27. Когда же Петербургскии интриги, зависть и клеветы добились удаления Ермолова и заменения Паскевичем28 при разгаре враждебных отношений с смежною Персиею, Паскевич с горсткою взятою в геройском Кавказском корпусе, воспитаннаго и одушевленнаго Ермоловым двинулся к Елизаветополю — древняя Ганжа — откудава выступил против подошедшаго Персидскаго наследнаго принца Абас Мурзы, с 60-тысячною армиею29, Паскевич изумленный остановил свой отряд, и не на что не решаясь, потерянной уселся на барабан с зади фронта, Вельяминов подъехал к нему и стал ему представлять опасность с нашей стороны оставаться в бездействии! Паскевич в иступление, закричал ему «место русского генерала под неприятельскими ядрами!» Вельяминов отъехав направился к Кургану стоящему пред фронтом наших войск, слез с лошади и лег на разостланную бурку: тут несколькими неприятельскими ядрами выбито сколько то лошадей из конвойной команды Вельяминова, к которому подъехал бешенный храбрец армянин генерал майор князь Мадатов — в Отечественную войну в Париже известный под прозвищем Prince du Karabaque* — требуя наступление; но получив ответ что это зависит от Главнокомандующего Мадатов вне себя поскакал к Паскевичу, ругаясь не печатными словами, упрекал его что опозорит непобедимыи до селе славныи знамены Кавказскии, так как неприятель их закидает своими шапками! Паскевич, окончательно потерянный, с отчаянием махнул рукой выговорив «делайте как знаете!» Мадатов как вихрь направился к Вельяминову, запыхаясь передал слова Главнокомандующего, требуя распоряжении и приказания. Вельяминов сел на лошадь, приказ<ал> Нижегородскаго драгунскаго полка дивизиону рубаки Левковича30 ийдти марш марш в атаку самого центра Персидской Линии, а Ширванскому батальону Юдина31 следовать в подкрепление драгунскому дивизиону, ширванцы в мгновение ока сбросили свои ранцы и кивера заменив их фуражками, по кавказски бегом понеслись, за далеко опередивших их драгун, которыи геройски неслись на 60 тыс. неприятеля: Перси<я>не же с обеих флангах на быстрых своих лошадях помчались окружить дивизион героев драгун, и в то самое мгновение что последнии ударили в лоб персиянам. Ширванцы с ревом ура в штыки ударил<и> в хвост заскакавшей Персидской кавалерии и туже секунду Персидская армия не выдержавши геройскаго столкновения из славных славнейших героев Кавказцов была опрокинута; вся наша кавалерия понеслась крошить опрокинутого неприятеля; сам Абас Мирза спасся присев за камень; вся артиллерия неприятеля, пропасть его оружия, знамен и значков достались победителям, и урон персиян раненными и из крошенными нашею кавалериею был громаден а спасшиеся от преследования были разсеяны32. А. А. Вельяминов Автолитография И. Фридрица Середина XIX в. В реляции о Елизаветопольском погроме Паскевич себе одному приписал эту победу33, и Император Николай «1» поверив своему фавориту, в оскорбление славнейшей Кавказской армии отрешил и предал опале славнейшаго современнаго полководца Ермолова, заменив его Паскевичем придав ему всех лучих Русских генералов получивших свое военное образование на исторических полях Отечественной войны, в тоже время усилив Кавказскую армию многочисленными войсками двинутыми из России. Вельяминов тогда отказался от занимаемой им должности начальника Штаба, и на все убеждении Паскевича отзывался своею неспособностью занимать ее, а на замечание что однако он долгое время занимал эту должность, Вельяминов отвечал, что обстановка была совершенно иная, так как Ермолов был его благодетель во всем до мелочи руководящего его! Вельяминова перевели начальником дивизии34 корпуса генерала Рота ненавистного в нашей армии35. В Турецкую войну при переправе чрез Дунай Рот во всеуслышание разругал и наговорил дерзости Вельяминову что тот в последствие говаривал: «Этот немец наемщик глумится над Русскими Дивизионными начальниками с целью унизить Русских и поэтому обходится с нами как никакой порядочный благовоспитанный человек не обходится со своей прислугой». В тот же вечер при вступление в Лагере Вельяминов подал рапорт что болен и на утро лег в лазаретную фуру. Целый переход Рот ехал около этой фуры уговаривая Вельяминова и упрашивал его взять назад свой рапорт но не добился другого ответа постоянно повторяемый «я болен!» Вельяминов был переведен начальником «14» пехотной дивизии36, назначенной вторично на Кавказ и с нею совершил зимний поход в Чечне, принесший обильный плод. На лето Паскевич прибыл в Пятигорск на воды, куда и вызвал Вельяминова который прибыв утром взашел в залу где толпились начальствующие лица ожидавшии выхода фельдмаршала, Царскаго фаворита. Вошедший Вельяминов, назвался дежурному адъютанту, поспешно ушедшаго доложить фельдмаршалу, который против своего обыкновения заставлять себя ждать, в мундире торопно вышел с распростертыми руками говоря «прошедшее забыто»! Вельяминов отступя отвечал: «если забыто то нечего вспоминать»! Как командующий Войсками на Кавказской линии Вельяминов до того удачно действовал походами на Левом фланге Кавказской Линии, что возстание в этой стране потеряло весь свой угрожающий характер, и все племена прилегающие к нашим пределам совершенно покорились и были обращены в охрану наших границ, так что оказалось возможным приступить к покорению племян закубанских и занимающии пребрежие Чернаго моря, постоянно подстрекаемых против России, приплывающими агентами Турецкими и Англицкими посылаемыи Британским посольством в Константинополе. Вельяминов владел в высшей степени искуством начальствовать и всем подчиненным, даже состоящим в равном с ним чине, внушал глубокое уважение и почитание: солдаты не любили его, прозвав «четыре глазый» в следствии таго что в походе он носил очки консервы, но питали к нему не ограниченное доверие придающее им в боях неудержимую отвагу. Вся жизнь Вельяминова была посвящена занятиям: дома в Ставрополе он исписовал своеручно целыи дести37 бумаги, хранящихся в Архиве Штаба Ставрополя; то правила для следования агромных рекрутских партий по безлюдным степям Ставропольской области; то проэкты управления Казачьими войсками, ему подчиненных, но более всего примечал он настойчивое внимание на составление предположение военных действ на предстоящее лето: в этих предположениях заключались все подробности необходимыи для ведения горной войны, правила которой превосходно созданы Вельяминовым, к сожалению не изданных38, но в подробности изложенных в выше поименованных предположениях равно и в первых приказах по собранным отрядам, о выступлении где подробно пояснено порядок марша и расчет войскам в горной стране. К правилам в горной стране должно добавить что Вельяминов создал превосходную во всех отношениях горную артиллерию, так все присылаемые горныи орудия, Англиской, Алжирской, Американской систем, оказывались никуда <не> годными, чрез свои лафеты39, а наши лафеты, Вельяминовскии испытаны и оказываются превосходны своею легкостью и прочностью. Во всех проэктах Вельяминова военных действий постоянно выказываются широкии геньяльныи взгляды на дело военного покорения Кавказа, дальновидность его, строгую логику и последовательность его выводов. С Петербургом, не имеющим понятия об особенности края и всех затруднений Горной войны, он не лукавил, и правдиво выставлял всю нелепость его теоретических узких возрений и тем внушал боязнь самому тогдашнему Военному Министру Чернышову, в сущности наглому шарлатану. Вельяминов не задумался выставить Петербургу нелепость изданных правил для наших крейсеров посылаемых к черкеским берегам Чернаго моря, и принятых без возражения славным адмиралом Лазаревым40, по собственному сознанию этаго адмирала, в следствии совершеннаго не знания этим адмиралом особенностий Черкескаго прибрежия. В походе всегда полы палатки Вельяминова были подняты для прохлады и весь отряд видел как он лежит на своей походной кровати, читая книгу. В закубанских походах он читал философический лексикон Вольтера. Когда Вельяминов начальствовал на Кавказской линии, командиром Отдельнаго Кавказскаго корпуса был Барон Григорий Володимирович Розен, в сущности добрый но препустой и вовсе не образованной человек, — покровительствуемый Военным Министром Чернышевым. Все семейство Барона Розена представляло самое развращенное сонм в домашнем быту: он сам и его оба сыновья были отявныи содомисты, вовсе не скрывая этаго: жена его по увярению французских газет — вероятно по сообщениям французских Консулов в Тифлисе, — слыла за имеющую плотскую страсть к Арапам, сверх того нагло хватала чужое и слыла взятошницею, учредив свои вечернии разгулы у начальници Института благородных девиц. Все это в совокупности в управлении Барона Розена обратило Тифлис, в новый Содом и Гомор, к тому же и войска расположенныи в Закавказие были распущеные до безобразия и более служили насыщением корысти начальников чем военным целям. Корпусное начальство оказывало явное <не>доброжелательство и совершенно не справедливое придирчивость Вельяминову чем сильно стесняло его. По хозяйственной и фронтовой частям войск подчиненных Вельяминову он не обращал никакого внимания, в этом отношении все предоставлял Дивизионному Начальнику в пехоте, и Атаману относительно Казачьяго войска. Как Областной Начальник Вельяминов не обращал никакова внимания на Гражданское Управление, представляющее совершенно безобразный калос. Вельяминов помер в Ставрополе в самое прибытие Генерала Головина — его двоюроднаго брата — командиром отдельнаго Кавказскаго корпуса и Главноуправляющаго на Кавказе и Закавказом. Павел Христафорович Граббе41 По смерти Алексея Александровича Вельяминова в Ставрополь был назначен Командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории и начальником Ставропольской области Генерал Лейтенант Граббе. Он был сын лютеранского пастора прибалтийскаго края. Мне ничего не известно о его воспитании, на службу же он поступил в Гвардейскую Конную Артиллерию42. Высокаго роста, стройный самой нарядной наружности от природы наделенный пышным красноречием, в обществе смелый до дерзости, он с первых офицерских чинах стал в положение на которое ему не давало право ни его воспитание, ни образование, ни происхождение. П. Х. Грабе Автолитография В. Тима 1852 г. Пред самым разрывом Отечественной войны, не знаю по какому случаю43 Граббе находился за границею где у него завелась связь с Великою Княгинею разставшеюся со своим мужем Константином Павловичем44, но вынужденный возвратиться в Россию к своей части по случаю предстоящей войны, в то время что въезд в наши пределы уже представлял не малыи затруднении, он ловко совершил переезд, и в Петербург привез рекомендательное письмо от своей Вяликой Княгини к вдовствующей Императрицы Марии Федоровны45. В 12-ом году Граббе состоял адъютантом Начальника Штаба «1» Армии А. П. Ермолова46. По заключения Мира Граббе встречается командиром — кажется — Елизаветградскаго полка47, где имел скандальную историю с обществом офицеров: но в царствование Александра Павловича подобныи случаи скрывались, с целью избегнуть необходимость признать начальника виновным48. При восшествии на престол Николая «1» Граббе был замешен в южном политическом тайном обществе, и привезен в Петербург где посажен в Петропавловскую крепость, в которой просидел несколько месяцев: но оказалось что он только смутно знал о существование общества, а участия его в нем не могли доказать, сверх того в следственной комиссии он говорил резко смело, даже раз временщик Чернышев сказал ему дерзость; Граббе засвидетельствовал всем присутствием что пока полковник не осужден, закон не дозволяет с ним такое обращение, по осуждение же виновнаго обращение зависит от личных свойств и степень чувств честности таго который в положение оскорблять, пользуясь своею безнаказанностью. Это столкновение имело последствием обратить обе поименованныи Личности в непримиримыи заклятыи враги. Когда Граббе выпустили из крепости, возвращаясь к своему полку расположенном в Харьковской губернии, у него что то сломалось в экипаже и он остановился в крестьянской хате имения Скоропатских, — потомков Запорожскаго Гетмана, — послал просить помещицу дозволить своим мастеровым починить его экипаж. Госпожа Скоропатская пригласила Граббе переехать в ее дом; где и приняла его самым радушным образом. Починка экипажа продолжалась несколько дней в которыи Граббе заметил что младшая дочь Скоропатской находится в загоне у матери и послана на Господскую кухню, девушка понравилась Граббе; он просил ее руку у Матери и тут же обвенчался: но она не долго прожила за мужем и оставила Граббе вдовцом49. После Турецкой войны «1829-го» года Граббе остался при войсках занимавших Молдавию под начальством Графа Киселева. Главная квартира находилась в Бухаресте, оживленным безпрерывными блестящими праздниками и балами на которых царила дочь Молдавана Медика, по которой вся молодежь с ума сходила и эта Катинька — каторой фамилии не помню была предметом общаго волокитства. Должно быть ее отцу это надоело, и прекрасный вечер разнесся слух: что Катиньку венчают в церкви с каким то стариком Молдаваном. Катинька переступив парог своего навязаннаго мужа прямо отправилась в спальную где и заперлась, не подаваясь ни каким прозьбам и увящеваниям отпереть замок, и на разсвете подожгла комнату, посредству постельных гардин спустилась в окно и бежала к своему отцу. То же утро Граббе отправился к Бухарестскому Архиеру, убедил его расторгнуть насильственный брак Катиньки, и вечером с нею обвенчался и она стала Екатерина Евстафьевна Граббе. Она была малаго роста, черноволоса, смугла, с чертами встречаемыми на Античных Греческих Камеях50. В Ставрополье Екатерина Евстафьевна, в последствие родов, от прилива молока к мозгу, помешалась, позднее изменила своему мужу, для прекрасного молодого человека Глебова51, — пожее убитаго состоя адъютантом князя Воронцова — и в следствие этой измены сам Граббе сделался всеобщим посмешищем по целым ночам ходя по тротуару под окнами спальни своей жены в длинном плаще с красным воротником, скрывая пару заряженных пистолетов. Трагиски кончила Екатерина Евстафьевна. Блестящая карьера Граббе при Императоре Николае «1-м» прервалась и он без назначения со всем многочисленным семейством удалился в свою деревню полученную от Скоропатскаго как долю его первой жены. Раз за вечерним чаем Екатерина Евстафьевна встав поцеловала мужа, патом по очередно своих детей, которых благословила, и удалилась в свои покои: вскоре послышался пистолетный выстрел, кинулись по направлению его звука, и застали труп самоубийцы. Генерал Граббе слыл не стерпимым подчиненным что он и доказал на Кавказе, куда он прибыл Генерал Лейтенантом: под непосредством начальства Командира Отдельного Кавказскаго корпуса. По Гражданской части, в звание начальника Ставропольской области Граббе оказался невозможным, допустив неслыханныи злоупотреблении и целый калос безпорядков. Как командующий войсками он по хозяйственной части — тут очень сложной в особенности относительно Линейнаго казачьяго войска — Граббе выказал отсутствие всяких малейших понятий. В военном деле — быть может <...> совершеннаго без понятия Горной войны — генерал Граббе оказался не только бездарным и без соображении военоначальником но еще весьма вредный по его не соображениям относительно сбережения войск и всюду, где он лично начальствовал, войска несли не слыханныи, на Кавказе, потери совершенно без малейшей пользы. Надменен в мелочах Граббе по свойству был не проходимо ленив по природе обработанной плохим воспитанием и слабым образованием, он проводил жизнь в совершенном far niente*, мастерски загрибая жар чужими руками безсовестно шарлатаня, и чрез это его управление отличалось наглым лихоимством и вопиющими злоупотреблениями его подчиненных. К тому же стечение обстоятельств сложилось благоприятно для природной лени Граббе. При назначении Граббе на Кавказ ему назначили Начальником Штаба Флигель Адъютанта полковника Генерального Штаба некто Траскина52, катораго прохождение службы — рисующия порядки таго времяни — внушало Граббе что Траскин приставлен к нему Шпионом, по сему он предоставил всю хозяйственную часть, подряды и расходы немаловажных сум каторыми Траскин широко пользовался. Военный Министр, выскачка Князь Чернышев — в лексиконе Бусета обозначенный «Aventurier Râpè»** — был вторым браком женат на девице Графине Зотовой, по матери внучка Князя Куракина отца бобочных семейств Боронов Вревских и Сердобинов: одна из девиц53 этих семейств жила у своей ближайшей родственницы Княгини Чернышевой и ее соблазнил Князь Чернышев, чрез что оказалось необходимо ее выдать замуж, для чего и выбрали Траскина отличавшегося единственно своим безобразием лица и уродливою тушностью54. Очень скоро после свадьбы Траскина умерла при родах и Траскин вдовец обчелся в своих расчетах, лишившись покровительства всесильного временщика Чернышева55 При дворе затеяли маскарод для катораго приготовлялся Китайской Кадриль. Для этой кадрили в числе прочих избрали уродливаго Траскина, каторой после репетиции во дворце, в Китайском наряде, в полутемном коридоре встретил, чем то взбешенаго Князя Орлова56, пред которым вздумал буфонить и задержал придворнаго Бок Малога каторый своею богатырскою дланью отвесил могучую пощечину широкорылому Траскину! но после узнав что этот ряженой Китаец полковник Генеральнаго Штаба сделался его покровителем. В день Маскарада Траскин заключил свое буфонство в Кадрили упавши на спину своего агромнаго туловища так что паркет затресся и тем возбудил неистовой хохот всем присутствующих, в особенности Императора Николая «1», чем К. А. Ф. Орлов воспользовался для предоставления Траскину звание флигель Адъютанта. У Граббе была страсть рисоваться, и например к разводу или параду, на площадь против занимаемого им дома, он выходил держа за руки своих обоих сыновей одетых в пажеских шинелях, и постоянно пользовался всяким случаем выказывать напускную важность и торжественность, почему на Кавказе в войсках его прозвали «Каратаган» по имяни славнаго актера Петербургскаго театра57. Дар красноречия у Граббе был развит до высшей степени, прекрасное лицо его прелестно оживлялось, синии глаза блестели, благозвучный голос принимал прекрасную интонацию и слушатель до того очаровывался, что не было возможности логически разбирать высказываемое им. Это был в полном смысле трибун увлекающий Араву, никогда не разбирающая высказываемое ей; и как трибун Граббе увлекался и доходил до абсурда; это то разочеровывало Императора Николая на его счет58. Зимою Граббе поехал в Петербург под влиянием чара причиненнаго в Северном Дагестане летом 1839-го года Ахулговской Кампании, самым витийским образом описанной в вымышленных военных реляциях. Однажды на вечернем чае у Императрицы на который был приглашен Граббе, поднесший Ея Величеству, ребенка девочку пленную <из> Ахулго, дочь Журхая однаго из Наибов Шамиля, которая была крещена при восприемниках Ея Величества и Граббе, к чаю пришел Император Николай, обратившийся к Граббе разговором о предполагаемых военных дейст<в>иях на предстоящее лето. Граббе увлекся своим красноречием и до того очаровал Императора что получил приказание на утро привести все вышесказанное им изложенное в записке. Приехав дамой Граббе с одной стороны, под влиянием сего гения в которое вовлекло его красноречие, с другой стороны не видя возможности противуречить словам очаровавших Царя составил записку проэкта военных действий за Тереком на предстоящее лето. Государь утвердив этот проэкт приказал Военному Министру отправить его Корпусному командиру Головину59 с повелением предоставить Граббе все нужныи военныи средства Кавказскаго Корпуса. Этот проэкт был замечателен по пышному красноречию его изложения, но не выдерживал внимательного обсуждения. В нем были одни хвастливые выражения как напр. разбив наголову неприятеля в такой то местности, занять его неприступную твердыню или, — для обеспечения безопасности такой то нашей границы, составить летучий отряд! — но из каких войск и в какой численности, не поминалось, так что вероятно не достало бы всего Кавказскаго Корпуса если всем раздробленным отрядам придали бы надлежащую численную силу; об продовольствие, парков, перевозочных средствах, госпиталях и мест расположения всего этаго не упоминалось ни единаго слова. Вообще этот военный проэкт был еще нелепее и без смысленнее чем пресловутыи «20» отрядов Паскевича имевшие окончательно покорить Кавказ. По получение этаго проэкта уже Высочайше утвержденнаго Головин, по соображениям Генеральнаго Штаба тот же час распорядился передвижением войск расположенных в Закавказие и парков имеющих участвовать в военных действиях порученных Граббе. О продовольствие Корпусному Командиру <не> заботиться по тому что он только утверждал торги на поставку провианта и фуража потребных для войск расположенных на Кавказской линии, предоставляя Командующему войсками на Кавказской Линии распределять их по соображении военных обстоятельств. Вечной Военный Министр Чернышев прибыл на Кавказ по особому Высочайшему поручению, оставя управление Военнаго Министерства Дежурному Генералу Графу Клейнмихелю60. Раз ночью прибыл к Корпусному Командиру курьер от Граббе. Головин меня потребовал, дал прочесть донесение Граббе, в котором извещал что не имея ни провианта ни сухарей он не в состояние исполнять Высочайше утвержденный проэкт Экспедиции почему находится вынужденным войска предназначенныи для похода <расположить> по внутренним нашим селениям, для продовольствия61, о чем вместе с сим курьером он доносит в Анапу Князю Чернышеву и в Петербург Графу Клейнмихелю. «Молодецкое дело» Автолитография Н. Зауервейда Середина XIX в. Головин дал мне предписание, с неопределенными самыми широкими полномочиями, дабы непременно немедленно доставить провиант и сухари в полном количестве для предстоящего похода Граббе и туже ночь отправил меня на Кавказскую линию. На линии я застал что целый месяц провиант совершенно без надобности перевозился в зад и в перед по магазейнам, так что оказывалось сумы израсходованныи на эти передвижении, только питали жадное лихоимство Начальника Штаба Траскина и неизвестно где имянно находится сам провиант. Не смотря на эту путаницу я быстро его разыскал и в силу данных мне полномочий, заключил подряды на перевозку его спешно к месту сбора Войск, где устроил земе<ль>ныи печи для обращения муки в хлебы, а последнии в сухари, двумя вытребованными батальонами, и так как источил прочии провиантскии магазины над Терскии, то помчался в Астрахань для ускорения перевозки провианта в истощенные Магазейны, которыи постоянно пополнялись провиантом доставляемом Волгою чрез Астраханской Царевой Магазейн Кавказскаго вождения. Из Астрахани я прибыл в место сбора отряда где представился Граббе и вручил ему донесение в котором подробно описал что имеется на месте сбора, продовольствие всего отряда на шесть месяцев. Утром дня в которой я прибыл выехал из отряда Кн. Чернышев, приказавши с курьером ему донести или получатся какии либо сведении от меня; поэтому ему отослали подлинной мой отчет. Когда я откланивался Граббе он грустен до истомы сказал мне: «Вы удивительно как распорядились, это просто невероятно, не постижимо, но меня окончательно погубили!» Действительно Граббе уже не имел возможности откладывать своего выступления с отрядом! Он это исполнил но несколько дней спустя вернулся из Ичкиринских дебрей сохранно, как не бывало на Кавказе, разбитый на голову с огромными потерями62. Настало конец особаго благоволения Императора Николая к Граббе. Император Александр Николаевич очаровался даром слова Граббе и он опять удостоился Царского благоволения. Полководцем Граббе нигде не мог быть а кроме России где не личныи достоинства, а совершенно иныи частныи влиянии возвышают людей. Во первых Граббе в своих соображениях о военных действиях не имел и призрака усмотрительности, осторожности и постоянно соображался своими фантазиями которыи постоянно расщитывал что они осуществятся, и это почти никогда не случалось. Во вторых в неудачах Граббе совершенно терялся и продолжительное время оставался окончательно не способен к какому либо соображению. Например: по взятии укрепленнаго Ахулго, стоившим нашим Геройским Кавказским войскам столько потерь и столь долго длившейся осады63, потому что Граббе вел дело на пролом и только под конец: когда прибегли к хитрости и внушениям, удачно окончилось разгромом твердыни, предпринято было занять и наказать пребальшаго, богатаго и превлиятельнаго в горах Аула «Чиркей», не смотря на все предостережении о каких то темных заговоров жителей, отряд выступил утром из Темир Хан Шуры и шел безо всякой предосторожности как бы мог следовать в наших пределах. На привале явился преданный мне чиркеевец «Биакай»64 с известием что чиркеевскии заговорщики, условились допустить наш отряд до ворот своей каменной высокой и толстой стены, и тут напасть со всех сторон. Чаркей состоял из узких улиц пролегающих меж высоки<ми> каменными оградами дворов в которых стояли большии каменныи двухэтажныи дома. К аулу вела узкая извилистая дорога более версты протяжения с обоих сторон окаймленная валяжными каменными высокими стенами, составляющии ограды роскошных чаркеевских фруктовых садов и виноградников. Эта дорога оканчивалась мостом чрез бешеный пенистый поток Сулака. Граббе на бурке уселся над мостом, и приказал авангарду двинуться с песельниками. Ширванской полк с песенниками вперед запелся: «унеси ты наше горе, быстро реченька бежит» и скрылись в дефилей дороги. Горные единороги65 авангарда, с увязанными на них мешками овса и китками сена только что въехали на мост, как послышался ружейный залп, со стен Чиркея и из за садовых стен показалась толпа авангарда опрометью бежавшая к мосту, кто потеряв шапки, кто амуницию, кто самое оружие, и за ними толпа чиркеевцев рубящия наших беглецов, хотя адъютанты Граббе кинулись рубить веревки перевязывающие фураж навьюченный на горных единорогах но не успели обратить эти орудии, которыи неприятель отбил и увез в свой аул. Ф. Клюки фон Клюгенау Граббе совершенно потерялся и удалился куда глаза глядят как помешенный, сняв шапку и рукою потирая лоб; я за ним следовал как его тень опасаясь чтобы с ним чего не случилось и усиливался вызвать его к памяти и к распоряжениям тем более что подошедшая колона безо всякого распоряжения по инстинкту этих столь боевых и славных войск завязала горячую перестрелку с неприятелем. В оправдание Ширванскаго полка должно пояснить, что перед этим на одном не удавшемся Штурма Ахульго, этот полк в несколько минут, а кроме полковых казначея и квартирмейстера, потерял от полкового Командира до младшаго офицера, всех фельдфебелей, большею частью капральных унтер офицеров и агромное число рядовых, так что убыль штаб и обер офицеров и отчасти унтер офицеров комплектовали из других полков личностями не знающии своих новых частей и им неизвестных66. Впячатление оставившее по себе в Петербурге сделало то что это страмное Чаркеевское дело ни мало не уронило Граббе: быть может и навранная реляция, которую я не видел, тоже представило позорное дело под Чаркеем блистательною победой. Но если Граббе не был военачальником то оказался еще худшим администратором. Но в обществе, в салоне, в кабинете, во всякой беседе он имел дар редкого очарователя, его речь составленная из избранных приличных и благозвучных слов постоянно выражала рыцарскии, благородныи, высоко нравственныи, честныи чувства, просто очаровывала и отуманивала слушателя. По этому естественно лица от которых зависела судьба Граббе, или знавшие его по его красноречию не могли разгадать что это было единственно роль разыгрываемая искуснейшим актером. Д. В. Пассек Все сдесь сказанное о вреде причиненном на Кавказе управлением Граббе подтверждается всеми событиями воспоследовавшими при его приемнике при котором наши крепости с артиллериею брались неприятелем на копие и гарнизоны их избивались; наконец все бывшии замиреныи туземцы, отложась переходили в неприятельские ряды. Без сомнения если ново назначенный Корпусной Командир «Нейдгард»67 соответствовал своему назначению и имел б военныи соображении, а главное умел бы внушать подчиненным исполнять свои обязанности, а приемник Граббе был бы военный а не парадный Генерал умевший командовать, то все таки избегли весь позор, столь правдиво описанный Бароном Торнау68 во 2-й части Русскаго Архива за 1881-й год, и Князь Аргутинской69 не заменил бы свой долг своими армянскими разщетами, сумасбродный храбрец «Клюке-фон-Клюгенау»70 был бы употреблен соответственно его способностям, «Пасек»71 не дерзал бы своевольничать столь нагло, а Гурко72 сумел бы быть начальником и не подражал бы пошлостям своих подчиненных. |
|
|
|
 12.3.2010, 1:43 12.3.2010, 1:43
Сообщение
#69
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Евгений Александрович Головин
В моих бумагах находится биография Генерала Головина: но она предназначалась для печати, что не состоялось, поэтому я ее сдесь дополню. Евгений Александрович воспитывался в Москве в университетском пансионе известнаго Антон Антоновича Антонскаго. По собственному его сознанию это образование было очень слабо и уже на службе настойчивыми занятиями он сам себя образовал и это весьма удовлетворительно. В Отечественную войну он служил в Армии. По производству в Генералы, еще в Царствование Императора Александра «1-го» Головин был назначен начальником Гренадерской бригады расположенной в Туле: в этой бригады состоял Имянитой Фанагорийской полк. Евгений Александрович был родной брат Ивана Александровича Головина начальствующаго в Москве Масонскою Ложею «Ожидающих Манну». Это обстоятельство повлияло на нравственное направление Евгения Александровича обратив его в истаго Масона. Он не имел никогда ни какова покровителя и всегда служил в Армии во фронте. Начало его известности изтекла из смотра Императора Александра «1-го» особенно довольнаго Бригадою Головина, назначившаго его командиром Гвардейскаго Егерскаго полка. Последущии прохождении Евгения Александровича описаны в разных журналах, даже его привлечение в Секту Татариновой, представляющую что то более образованнаго Скопческаго раскола73. Назначение его Командиром Отдельнаго Кавказскаго корпуса было для него не легко. Войска Закавказия были до того распущены что строевыи солдаты выходили на большии дороги вооруженныи, где стреляли и грабили проезжих. Начальники хвастовством заносились до наглой лжи: например Командир Нижегородскаго драгунскаго полка «Безобразов»74 — за свою жену, урожденная княжна Лопухина75, лишенный флигель адъютантскаго звания и высланный из Петербурга, — представлял реляции, что со своим полком в рукопашном бою он истребил значительныи шайки Лезгин, а на поверку оказалось что во всем полку не было ни одной Шашки отточенной. По гражданской части злоупотреблении, и не выразимыи безпорядки далеко превышали военныи. Ревизовавший Гражданское Управление Барона Розена, Сенатор Барон Ган76, был оставлен в Закавказие, ознакомить Головина со всею грязью им открытой, что он и исполнил, но не смотря на его близкое исследование края, он только указывал на зло но не мог придумать средства устранить это зло и указать на личности из тамошних служащих в состояние способствовать <на>весьти порядок. Ко всему этому из Петербурга Головин получал чувствительныи оскорблении: как то: его семейство прибыло в Тифлис со своим доктором «Касовичем»77 — последователем секты Татариновой — . В скоре Шеф Жандармов, Граф Бенкендорф сообщил Головину что Государь Николай «1» приказал выслать «Касовича» из Грузии! «Касович» собирался выехать когда явился к Головину местный Жандармской Окружной Генерал «Скалон» — такой же урод из себя как отвратительною своей нравственностью, — пред<ъ>явив повеление Бенкендорфа, если «Касович» в данной срок не выедит то взять его и с жандармом доставить в Петербург. Патом когда в Петербурге ночью арестовали Татарину и ее союзников, а потом разослали их с жандармами; Головину с ее детьми78 выслали с унтер офицером Петербургскаго жандармскаго дивизиона «Михаиловым» к ея мужу тогда служащаго в Варшаве. «Михаилов» оказался услужливый и расторопный Малый, вскоре произведенный в офицеры с состоянием по кавалерии; и Головин его взял заведовать домом Корпуснаго Командира в Тифлисе, положеннаго по штату. С. Д. Безобразов Михаилова, без его ведома, определили в какой то полк и из Петербурга, Штаб Кавказскаго Корпуса получил строгое повяление, немедленно отправить Михаилова в Россию в полк куда он назначен. Генерал Скалон попустился до такой дерзости что ни более у Корпуснаго Командира он подвел не приглашеннаго своего офицера Иерусалимскаго рекомендовать Головиной, и тоже время перемигивался со своей, достойной его самого, супруги. Иерусалимский во время арестов секты Татариновой, начальствовал караулом приставленным к Головиной и теперь был вновь переведен в Тифлисскую Жандармскую Команду. Граббе был известен как нестерпимый подчиненный и теперь он не стесняясь шел против Головина, когда по Высочайшему повелению под Главным начальством Головина и непосредственным начальством Граббе повелено образовать Черноморскую береговую Линию под начальством Генерала Маиора «Раевского»79 человеку решительно ни к чему не способному не смотря на свой большой ум и огромную енсиклопедическую начи<тан>ность, совершенно поверхностную чуждую всякой специальности. С перваго же лета Раевскому дан отряд для занятия указанных мест на Черкеских берегах Чернаго моря и возведения на этих местах Укреплений; на него было возложено ежедневныи военныи журналы которыи по команде шли к докладу Государя. Раевской ухитрялся включать в них им же вымышляемыи, будто Историческии сведении, повествовании о обычаях и взаимных отношениях Горских племян, тоже от начала до конца им самим выдуманныи. Эти военныи журналы так понравились Императору Николаю что он стал их читать Императрицы, которая до того ими увлеклась, что из<ъ>явила желание их чаще получать, в последствие чего воспоследовало Высочайшее повеление чтобы не зависимо от военных журналов представляемых Раевским по команде чрез Тифлис он представлял Копии с них прямо к Военному Министру80. Тогда Раевский стал вводить в эти журналы загадочныи предметы, которыи, в частных письмах он пояснял своим придворным связям, как контролирующии и обвиняющии своих непосредственных начальников: Граббе и Головина, над которыми он едко издевался, выставляя обоих пошлыми дураками. Впрочем при этом Раевский все таки, хотя сколько нибудь, да сохранял призрак осторожности81: но когда неприятель стал овладевать нашими прибрежными крепостями, и что по Высочайшему повелению воспоследовал запрос Головину и Граббе и Раевскому, и по получение их ответа Военный Министр послал им бумагу, по слогу явно продиктованную Императором, — катораго слог совершенно отличался своим повелительным тоном, — начинающаяся словами: «усматривая совершенное разноречие в отзывах трех Главных Начальников Кавказа!»... тогда Граббе и Раевский гласно стали провозглашать что сам Государь признает их равными Корпусному Командиру! в последствие чего Граббе отстранил от себя власть Корпуснаго Командира, фактически отделяясь от него, а Раевской с синическою наглостью стал официяльно поднимать на смех повеления Граббе и Головина отвечая на их формальныи бумаги едкими колкостями и пошлыми насмешками. Все эти обстоятельства, добавленныи к прежним опалам окончательно сломили природную неприклонную энергию Головина и он письмом Государю просил увольнения от занимаемаго им поста что и получил. Странное явление представлял Головин в звании Члена Государственного совета; привыкши к напряженной служебной деятельности он тяготился без обязательной деятельности, в нравственном отношении заменив изуверныи Мистические мечты на чудовишныи упражнении плотской секты Татариной, пережив мужественную силу своего сложения, под конец своей жизни он остался не причем с совершенно поколеблемым доверием к своим прежним убеждениям, представляя собою могучий корабль пливучий не имея цели куда пристать: точно также и Головин усумнившись в истине пережитых им упований, в своих мыслях лишенный всякой устойчивости бродил в своих мыслях не будучи в состояние решить самому себе его прежнии веровании были ли греховны или благочестивы? Что тем сильнее тяготило на его мышление что душевно он был строжайше нравственен. Николай Николаевич Раевской Сын славнаго сподвижника деятелей Отечественной войны он четырнадцати лет от роду с братом своим участвовал в этой Эпопеи Русской Армии, и когда корпус отца его отрезывался неприятельскою колоною, доблестный Корпусной командир Раевской, впереди своих двух сынов держащих по знамени <встал> и пошел на пролом вражей колоны. Н. Н. Раевский Само собою Николай Николаевич с столь юных лет состоя в рядах Русских Героев не мог иметь удовлетворительных воспитания и образования, но одаренный большим умом и восприимчивостью он пополнил недостатки своего образования большою начитанностью, в последствие придавшее ему поверхносныи энциклопедическии познания, которыи в нем развели самое искустное Шарлатанство отличающееся своею наглостью. Все это в совокупности соделало из Н. Н. Раевскаго замечательную умную личность без веры религиозной и общественной, глубоко но не потрясаемому убеждению, презирающаго Свет, Людей, их деяния и учреждении над которыми он с глубочайшим синизмом смеялся. Большии, придворныи связи и воспоминаньи о заслугах его отца ему сильно покровительствовали. В Персидскую войну 1826-го года он получил на Кавказе начальство славнаго Нижегородскаго драгунскаго полка, которым он вовсе не занимался не имея ни малейшаго понятия о службы. Патом участвовал в последующей — по заключения Мира с Персиею, — в Турецкой войне, завел интриги, в следствие которых Паскевич его выпроводил из Армии и подвел его в Генеральском чине, Аресту по Высочайшему повелению82. После этаго Раевской оставался без назначения и наконец получил в 1838 году начальство над вновь образуемой береговой Линии Чернаго моря. Тут он оказался вредным и невозможным шутом не зная Русскаго языка он по французки диктовал военный журнал своему приятелю, безалабередному Льву Пушкина, — брата поета83, — писавший этот журнал по Русски, безпрестанно повторяя «да это не возможно писать, это выходит из всякого правдоподобия!» на что Раевской постоянно возражал одно и тоже: «Любезный Лев Сергеевич вы глупы и ничего не понимаете, чем больше вранья представлять в Петербург тем более его восхищаешь и приобретаешь Кредит у него!»84. Как отрядный начальник Раевской был не возможен: и напр. в переходах сидя верхом в какой то Шутовской полуодежды заставлял на походе целыи полки, каторых солдаты взявшись друг друга под руки ийдти гусем выплясывая с припевом Малороссийскаго «Журавля» под песнею своею похабностью не печатанная85. Раевский не успел изгнать всякой порядок и дисциплину в войсках порученнаго ему отряда, единственно потому что они были образованы Вельяминовым и еще имели ближайших начальников избранных этим, в полном смысле, славным Генералом. К счастию Раевскаго он кончил свою карьеру удалением от начальства береговой Линии с оказанным благоволением, потому что в Петербурге сочли не возможным его заслужено карать за все его дела, то и сочли лучше притвориться что не знают их. Нахальство и находчивость Николая Раевскаго были изумительны: вот тому пример. Было время когда Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова имела связь с Александром Раевским, — роднаго брата Николая, — связь кончилась публичным позорным скандалом86; но все таки она естественно имела влияние на расположение Графини к Николаю Раевскаго, когда он после Турецкой войны 1829-го года, без значения жил на Южном берегу Крыма где из рядко он посещал Воронцова в Алупке и своим редким умом забавлял Графиню. Оба Воронцовы постоянно приставали к Раевскому чтобы он чаще их посещал и оставался у них на несколько дней. Раевской же отговаривался тем что он не в состоянии выносить жар застегнутый в военной одежды. Тогда Графиня придумала его нарядить в старыи свои придворныи платья, слишком пышныи чтобы их отдавать горничным, и их раздирали по переднему Лифу и надевали на высокаго, плечистаго Николая Раевскаго служащаго всем забавой в этом наряде в котором он являлся к столу и в гостину87. Обычаи Алупки были следующии: по пушечному выстрелу в «6» часов собирались к обеду, после катораго переходили в гостину где Граф Михаил Семенович садился в бальшии кресла стоящии против поперечной стороны стола в доль катораго на диване сиживала графиня близ своего Мужа и рядом с ней Раевской в ея нарядном платье. Это было время связи Графини Воронцовой с начальником военных поселений Графом Витте. За чем то вызвали Графиню Воронцову. Она встала и сказала Раевскому ее пропустить. О<н> медленно, медведи образно стал вставать ладонью опираясь о стол; Графиня дружески ударяя его по плечу, промолвила: «Raevsky comme Vous êtes lent!»* Он обернул голову к ней и смотря ей в глаза произнес: «Faut-il Madame être Vite pour Vous plaire!»**. По удаление с береговой линии, Раевской поселился на Южном берегу Крыма в имение своей богатой жены урожденной Бороздина88. Сдесь он скоро возстал против Князя Воронцова по своему обыкновению, став распространять пошлыи епиграмы и вымыслы о нем так что Граф запретил его принимать. Е. К. Воронцова Раевской до того нагло презирал Петербург что в первой экспедиции береговой Линии, во время постройки укреплении он углубился диктовать по французки проэ<к>т Пушкину, писавшего его по Русски, Морскаго военнаго поселения, на восточном берегу Чернаго моря имеющаго служить Местному флоту тем же чем военныи поселении предполагались служить Сухопутным войскам. Пушкин чтетно клялся что это не возможный сумбур самаго дурацкаго пошиба. Раевский же одно твердил: «Вы ничего не понимаете, Мудрецы Петербурга, гиганты в невежестве и дурости, всякому верят, когда умеешь изложить». Этот пресловутый проэкт Морскаго военнаго поселения кончался прозьбою зачислить в поселенцы «Волконского», женатого на родной сестре Николая Николаевича, последовавшаго за мужем сосланнаго в Сибирь по делу тайных обществ открытых в 1825 году. Не смотря на все происки Раевскаго этот проэкт не был принят к докладу в Петербурге а проект Раевскаго и он сам презрительно осмеяны. Раевский где то в неизвестной глуши помер всюду и всеми забытый. Анреп89 заменил Раевскаго. Г. Х. Засс Анреп Не иносказательно, а истинно был помешанный, корчевший Героя х рабрости и честности до иступления; в действительности же совершенно ни к чему не способный, внушаемый какими то фантастическими идеалами, в особенности в военном отношение, он в Турецкой войне пятидесятых годов90 на линии Дуная практически доказал свою совершенную неспособность и ничтожество91. С Граббе Анреп был заклятый враг не щадившего перваго. На каком то Царском смотру92, по словам Анрепа, Граббе, как Дивизионный начальник, в команде переврал приказание Государя так что Анреп со своею бригадою исполнил Движение не соответствующее Высочайшей Воли, в следствие чего перед всем сбором многочисленнаго войска Государь Николай повелел послать Анрепа за фрунт. В следствие этого Анреп имел объяснение с Граббе, при катором оба распетушились до того что первый вызвал своего соперника на поединок, но как оба сознавали что им в России стреляться не благоразумно то согласились стреляться заграницей, куда Анреп поехал и где несколько месяцев тщетно прождал Граббе избежавшаго поединка. В последствие это послужило Анрепу поводом обращаться и отзываться о Граббе с величайшим презрением выставляя его трусом и безчестным актером. Сам по себе Анреп был добрый человек, не способный сознательно делать зло и безчестной поступок, но как пустая помешанная личность, окружающии его вводили в самыи неблаговидныи поступки. Прочии Генералы на Кавказской Линии были личности пустейшии без о всякаго значения, единственно употребляемыи для обезательных инспекторских смотров. Одно исключение составлял «Засс» Курляндец без признака образования, и убеждении, имевший особыи способности на вооруженныи разбои на Широкую ногу, которыи в случаях надобности наказать вероломство какого либо туземнаго племя93 Вельяминовым поручалось набег, остальное же время это<т> славный Генерал, держал «Засса», как говорится, на цепи94. И. Р. Анреп Полковыи командиры выдрессированныи Вельяминовым, хотя не представляли ничего особеннаго, но на своих постах были удовлетворительны и достойно поддерживали в своих полках дивный военный Кавказский дух. За то Закавказом, из Трех Старших Генералов иноземцов двое «Фези» и «Клюк-фон-Клюгенау» были ничто иное как безтолковыи хвастуны с обращением казарменных капралов; третий Армянин Князь Моисей Захарович Аргутинской-Долгоруков, — совершенный выродок своей национальности, при грубом воспитание и отсутствия всякого образования, отличался своим строгим безкорыстием и личною храбростью. К тому же хорошо говорящий на туземных наречиях вел все преговоры лично, без переводчиков, и одаренный всей многообразной хитростью и Лукавством Армян, превосходно ладил с неприязненными нам племенами, чрез своих отличных лазутчиков, заблаговременно зная малейшии замыслы и намерении горцев. Закавказскии войска свято хранили предании о дивных боевых подвигах своих полков, но долгое время оставаясь без боевых упражнениях, быть может от части отстали в боевом отношении от войск расположенных на Кавказской Линии. М. З. Аргутинский-Долгоруков Нейдгард Вместо Головина назначен был Командир Армейскаго Корпуса расположенный в Москве «Нейдгард» должно быть по тому что на смотрах Императора Николая, Государю нравилась выправка солдат, чистота амуниции и оружия, благовидность фронта и маршировка и отчетливость ружейных приемов корпуса Нейдгарда представленнаго на смотр, тоже вероятно повлияло на это назначение благорасположение канцелярии Военнаго Министерства, причем должно полагать что не мало посодействовало личное корыстолюбие Военнаго Министра Чернышева, как ниже пояснится. Нейдгард произходил из темнаго Немецкаго Семейства, был брюзглавый Малинькой человечек искательный и низкопоклонный до подлости пред сильными и влиятельными личностями, деспотически надменен и груб со всяким подчиненным не имевшаго покровителей95. Я его знал в первый период своей службы в Московском корпусе Графа Петра Александровича Толстаго при котором Нейдгард был начальником Штаба. Граф Петр Александрович Толстой не отличался особыми дарованиями, а образование его, по отношению к прошлому веку, удовлетворительно, но он отличался правдивостью, премотою и патриотизмом совершенно подобным нашим Лучим достославным древним Боярам: его поговорка, — которую он глубо<ко> прочувствовал, — была: «Братец Россия вить наша Мать!» В обхождение его не было и призрака гордости, и например при инспекторских смотрах, когда его окружали солдаты каторых он опрашивал претензии, Граф Петр Александрович неприменно спросит: «нет ли у кого понюхать табаку?» тот час явятся несколько тавланок, и Корпусной Командир, на радость всех окружающих его солдат в одну из поднесенных тавланок опустит пальцы и втягивая в нос щепотку табаку всегда промолвит: «Экой братец у тебя славный забористый табак!» Но Граф с неприступною гордостью нес свое Русское достоинство, вероятно это, — пред Отечественною войною когда он был послан в Париж полномочным Министром, — внушило Наполеону «1» глубокое уважение и внимание. А. Н. Нейдгардт Когда Граф Петр Александрович в Москве командовал 5 пехотным Корпусом он был предметом оказываемого ему всеобщаго уважения, начиная с самаго Императора Александра «1-го» и даже царских временщиков не исключая, прозваннаго «Сила Андреевич» всеми ненавидимаго, страшнаго Графа Алексея Андреевича Аракчеева. В Москве Граф Петр Александрович вовсе не обращал внимания на канцелярскии мелочи своего Штаба, предоставляя их своему Начальнику Штаба, сам же с отеческою заботою заботился чтобы солдаты имели хорошую пищу, управлялись правильно без лишняго и неправильнаго отягощения. Нейдгард же со своею немецкою мелочностью копотился в своей канцелярии Штаба, наблюдая чтобы все отписки и срочные отчеты на каторыи ни кто <не> обращает внимания, — велись аккуратно и свое временно. В «5»-м Корпусе, при доступности Корпуснаго Командира, начальник Штаба не мог заслужить ни чей нелюбви, но он всем надоедал своею немчурскою мелочностью. Всех изумило назначение Нейдгарда Командиром Отдельнаго Кавказскаго Корпуса и Главноуправляющим Гражданскою частию, как Генерала не имеющаго никакой военной репутации и никогда не управлявшаго самостоятельно Гражданскою частью, в страну где кипела самая трудная война и где сложное Гражданское управление еще далеко не устоялось и требовало трудныи головоломныи соображения к Учреждениям Остальной Империи. Во время управления Нейдгарда внушеный своей нелюбовию к Немцам я вышел в отставку, так что не был свидетелем всех безумных, свое образных, без законных мер введенных Немецким Авантюристом, в управление славным Кавказским Корпусом и по Гражданской части Закавказа. Но опять вступив на службу при назначении Графа Воронцова Главнокомандующим и Наместником Кавказским, по своей служебной деятельности мне пришлось официально изследовать многии вопиющии злоупотреблении и без законии введеныи распоряжениями подписанныи Нейдгардом. Князь Михаил Семенович Воронцов В Русском Архиве напечатана моя статья под заглавием «К биографии Князя М. С. Воронцова!» но как статья назначенная к печати, естественно многое упущено96. Князь Михаил Семенович от природы не был одарен ни какими мало мальски выдающимися дарованиями, но, особенно в возмужалом возрасте, он служил примером как разумное и прекрасное воспитание и образование в состояние обратить самое обыкновенное существо в замечательнаго Государственнаго деятеля. Воспитание и образование Князя Воронцова развили в нем гуманность, справедливость, высокое благородство во всех его поступках, настойчивость никогда и ни в чем не ослабевающую деятельность доходящая до совершеннаго самозабвения, и постоянную наблюдательность обсуждаему сдраво мышлением. В семейном отношение счастие ему не поблагоприятствовало и он глубоко чувствовал это, зная все распутство его жены. Единственный его первый рабенок, дочь Иозефина, умерла в юности, остальныи дети носящии его имя, по чертам их лиц во все видение были не его дети, не смотря на это Князь был постоянно добр и нежен к ним. К жене своей Князь Воронцов, по наружности, при посторонних был уважителен и этим принуждал всех оказывать ей самое изысканное почтение; но сколько раз находясь по службе на едине с Князем в ее присутствие, или она вмешается в наши переговоры, то он отпускал ей самыи колкии намеки иногда даже дерзость, при чем его лицо выражало наи<г>лубочайшее презрение! Она же постоянно изумляла своим хладнокровием, как будто эти намеки и дерзости не к ней относились, чем явно доказывала что привыкла к подобным выходкам. Одно из первых предметов Каторыи пришлось Воронцову распутывать относительно управления Нейдгарда было дело Провиантское97. Объезд Военнаго Министра Кавказа отозвался общим возмущением Горских племен, что весьма естественно потому что Чернышев не имея понятия об обычаях и умозрении туземцев, прибывши с целью свергнуть Головина, катораго он не навидил, потому что Головин был назначен Императором на Кавказ помимо его Чернышева и что Головин не вносил оброки в Военное Министерство, Чернышев прибыв на Кавказ как истый надменный и наглый временщик, знать не хотел ознакомиться с духом и особенностями туземцов, как диктатор повелевал по своим невежественным теоретическим понятиям почерпнутым в Петербургских канцеляриях. Последствиями возстания Горцев было очевиднае совершеннае недостача численности войска на Кавказе о чем, посредством фельдъегеря донесено было Государю в то время путешествующему. Николай Павлович получивши донесение о том отправил фельдъегеря сопутствующаго ему в какую то пехотную дивизию, с повелением немедленно следовать на Кавказ форсированным маршем, о сем тот же фельдъегерь привез уведомление Головину. Не много спустя прислали на Кавказ еще другую пехотную Дивизию98. Естественно эти обе Дивизии расположенныи во внутренних Губерниях продовольствовались на сумы отпускаемыи военному Министерству каторое не перевело эти значительныи деньги в Кавказское Интендантство нашедшееся вынужденным довольствовать эти Дивизии, в продолжении полугода всеми запасами и средствами. Когда Нейдгард потребовал пополнение этих запасов и средств военное Министерство сделало начет на Кавказское Интендантство в слишком Шестьсот рублей за израсходование Кавказских запасов. Нейдгард повидимому опасаясь навлечь на себя гонение Военнаго Министерства завел пустую переписку расплодившейся в агромных размерах, а положенныи продовольственныи запасы, на случай замешательства с Персиею и Азиатскою Турциею все таки не пополнялись в стране где наше владычество еще далеко не утвердилось. По прибытии в Тифлис Воронцова вникнувши во все подробности этой казнокрадской проделки он потребовал от Чернышева немедленной высылки этой сумы, каторая наконец без отговорочно была выслана. В Дагестан по распоряжению Нейдгарда Генералом Клюке-фон-Клюгенау было заведено самае грязнае и наглае Маркитантская проделка по снабжению войск винною порциею, именно, что при передвижение какое не было число войск, обязательно маркитанту высылать свои припасы, и всюду где они останавливались, вся прочая жительская торговля прекращалась и воспрещалась! В следствие этаго в те аулы где торговля процветала, туда высылались несколько солдат и маркитантская Монополия заменяла торговлю жителей! Это наглое злоупотребление прекращено одним повелением Новоприбывшаго Главнокомандующаго. Но самое наглое злоупотребление власти, из числа мне известных, — управления Нейдгарда сказалось в самом Тифлисе. По назначение Нейдгарда на Кавказ, он в Москве пригласил прибыть в Тифлис своих земляков Немцов ремесленников сапожников, портных, кузнецов, колбасников, дамских парикмахеров и пр. каторых наехало целая колония. С самаго прибытия в Тифлис Воронцов еще мало известный в своем Егерском сертуке, отправлялся пешком прогуливаться, и увидев вывеску француза дамского парикмахера зашел в этот Магазин. Хозяина не было дома и его встретил Красавиц, молодец в Шинели Грузинскаго Гренадерскаго полка — которым тогда командовал флигель адъютант Копьев99, — на распросы Князя Михаила Семеновича гренадер передал что он отдан из полка в учение дамскаго парикмахера, и недавно поступил вместо однополчанина утопившагося с отчаяния скверной жизни, так как хозяин принуждает к самым отвратительным черным работам, бьет без пощады и кормит самым скверным образом в проголодь так <как> казенный его — гренадера — паек удерживается в полку. Вернувшись домой Воронцов тотчас послал в Штаб за справкою, каким образом из полка отдан строевой Гренадер на обучение мастерства женских причесок? Оказалось что воспоследовало предписание Нейдгарда всем полковым командирам и начальникам отдельных частей отдать солдат, командуемых ими частей в обучение разным приезжим Мастерам и ремесленникам. А. И. Барятинский Воронцов приказал полиции на утро собрать перед домом всех нижних чинов находящихся в Тифлисе не при своих частей. Таких солдат собрали более шести сот человек. В военном отношение, фотографирует Нейгарда как военнаго Генерала, строго правдивое статья барона Торнау, помещенная во второй книги за 1881-й год Русскаго Архива100. Удивительно как Князь Воронцов быстро и верно решал докладываемые ему дела, и это служило не опровержимым доказательством с каким постоянным вниманием он следил за всем восходящим до него в продолжение столь долгаго служебнаго поприща проведеннаго почти исключительно на действительной службе, так как он только короткое время был адъютантом Графа Петра Александровича Толстаго, при Петербургском же дворе он никогда не бывал иначе как проездом из самостоятельно занимаемых им постов. По возвращению Князя Михаила Семеновича Воронцова с акупационным своим корпусом из Франции в Россию подвергся негодованию Императора Александра «1-го» в следствие чего он не вышел в отставку а удалился в 1881101 году в новокупленное имение, Киевской губернии «Мошня» на приданое его жены 57 миллионов рублей. В этом селе «Мошня» Князь Воронцов пробыл некоторое время занимаясь его устройством и с самодовольствием воспоминал в последствие, между прочим как огромное озеро лично им изследованное плавыя в маленьком каюке, называемом народом «душегубкою» он обратил в превосходный Луг. По окончанию своей служебной плодовитой деятельности Князь Воронцов удалился на некоторое время в «Мошню» и пред самою кончиною переехал в созданное им любимое детище, Одессу, где и почил искренне оплакиваемый множеством бывших его подчиненных, неменьшим числом знавших его и множеством облагодетельствованных им. Впрочем нечего распространяться об этой Личности принадлежащей к сонму наилучших и яснейших Мужей нашей Отечественной Летописи. Князь Александр Иванович Барятинской102 Об этом фельдмаршале в моих бумагах имеется особенная интимная биография103, сдесь не помещаемая потому что слишком грустно она рисует каких ничтожных личностей прихати выводили у нас и тем окончательно опошливались в России высокии служебныи паложении, губя Отечество представляя ничтожествам влиять на его управление и Судьбы. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Бекович-Черкасский Федор (Темирбулат) Александрович (1790—1832), князь, генерал-майор. Родом из кабардинцев. В 1817 г. адъютантом участвовал в посольстве А. П. Ермолова в Персию и получил от шаха орден Льва и Солнца 2-й степени. Затем отличился во многих стычках с горцами на Кавказе. В 1826 г. был награжден за отличие орденом Св. Георгия 4-го класса, в 1828 г. произведен в генерал-майоры и стал командовать бригадой 21-й пехотной дивизии. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. управлял Карским пашалыком и Эрзерумом. С 1832 г. — начальник Сунженской линии. 2 Бестужев-Марлинский Александр Александрович (1797—1837), декабрист, известный писатель. После суда над декабристами и ссылки в Якутск в 1829 г. был определен рядовым на Кавказ, в 1835 г. за отличие в боях произведен в прапорщики. Погиб в стычке с горцами на мысе Адлер. 3 Род князей Бековичей-Черкасских — один из трех самых знатных в Малой Кабарде. Федор Александрович и его младший брат Ефим в 1824 г. по ходатайству Ермолова получили в потомственное владение земли по правому берегу р. Терек (98 511 дес. земли), принадлежавшие ранее князьям Мударовым. Русские власти при этом руководствовались наследственным правом, так как их мать была урожденная княжна Мударова (РГВИА. Ф. 395. Оп. 130. 1824 г. Д. 146; Оп. 86. 1831 г. Д. 765; Оп. 276. 1840 г. Канцелярия. Д. 562). 4 У некоторых народов Кавказа практиковалась особая система воспитания. С раннего возраста мальчиков отрывали от семьи и отдавали под руководство аталыка (воспитателя), который готовил их к будущей суровой военной жизни: учил управлять конем, владеть оружием, совершать длительные походы, во время которых юноши добывали себе пищу любым способом (см.: Ковалевский Я. Я. Кавказ. СПб. 1914. Т. 1. С. 54—55). Хищники и хищничество — термин, употреблявшийся для названия независимых горцев, совершавших набеги на соседей и территории, контролируемые русскими властями. 5 Бекович-Черкасский поступил на гражданскую службу в 1806 г. в чине губернского секретаря, состоял при командующем войсками Кавказской линии генерал-лейтенанте С. А. Булгакове, а затем перешел на военную службу. Оставаясь на Кавказе, 28 января 1816 г. был переведен в чине поручика в состав лейб-гвардии Казачьего полка (где только числился), а 19 октября 1824 г. перешел с чином полковника в Херсонский гренадерский полк. 6 Крепость Гассан-Кале была занята без боя русскими войсками 23 июля 1829 г. 7 Арзерум в то время считался главным городом Анатолии (Азиатской Турции) и в нем проживало до 100 000 жителей. 8 Бековича-Черкасского 26 июля 1829 г. сопровождали: поручик Миницкий, сотник Медведев, 15 казаков и пять кабардинцев-телохранителей (см.: Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб. 1889. Т. IV. Вып. III. С. 462). Автор со слов очевидцев и по прошествии длительного времени здесь и далее весьма путано описывает обстоятельства миссии Бековича-Черкасского. В частности, первоначально его небольшой отряд был обстрелян со стен города. 9 Толстой исказил реально произошедшие события. Русское командование первоначально завязало сношения с городской администрацией через арзерумского старшину Мамеш-ага. Бекович-Черкасский остановился в одном из частных домов и вечером вел переговоры о сдаче с губернатором города, а с сераскиром лишь утром 27 июля. Эпизод с выходом на балкон произошел днем 27 июля, когда толпа недовольных фанатиков окружила дом, занятый русским генералом. Тогда Бекович с балкона не побоялся обратиться с речью на турецком языке. Он напомнил собравшимся штурмовать дом об участи жителей Ахалцыха, оказавших сопротивление русским и поэтому истребленных, процитировал выдержки из корана о запрете проливать кровь правоверных и подвергать мечети разрушению, что было бы сделано в случае убийства русского посла (см.: Потто В. Указ. соч. С. 467—468; Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб. 1841. Ч. 4. С. 317—322). 10 В пять часов вечера 27 июля (день Полтавской битвы) 1829 г. русские войска вошли в город. Было взято 152 орудия, 33 знамени, в плен попали сераскир Хаджи Салех, три паши и 15000 турок. 11 Основным занятием населения оставалось скотоводство, в случаях потери скота горцы совершали набеги и угоняли стада у соседей (см.: Родина. 1994. № 3—4. С. 19—20). 12 Автор имел в виду план «одновременного и возможно быстрого покорения Кавказа», составленный И. Ф. Паскевичем в 1829 г. по приказу Императора Николая I. Суть предложенного плана заключалась по существу в одной фразе: «войти стремительно в горы, пройти оныя во всех направлениях» (Кавказский сборник. Тифлис. 1888. Т. XII. С. 64—69). 13 Толстой так оценивает экспедицию осенью 1830 г. против шапсугов, предпринятую под руководством Паскевича. 14 Темирбулат. Именно так его называли в переписке родственники (РГВИА. Ф. 137. Оп. 1/188 в. Св. 33. Д. 2. Л. 19). 15 Это мнение подтверждается и другими современниками. Так Е. Е. Лачинов писал: «Кн. Бекович имеет особенный дар и средства привлекать их (мусульман — В. Б.) к себе. С малолетства научась не только турецкому, но и арабскому языку, он знает их в тонкости, знает также нравы, обычаи, дух народов азиатских и приобрел необычайное искусство владеть ими» (Кавказский сборник. Тифлис. 1876. Т. I. С. 188). Весьма высоко ценил своего любимого адъютанта и Ермолов: «В нескольких случаях испытал я его как офицера храброго и расторопного, а сверх того знание языков и народов здешней земли дает ему большие преимущества перед другими чиновниками» (Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50 гг. XIX в. Махачкала. 1959. С. 42). 16 Женой (возможно, просто наложницей) была бывшая супруга Али Карамурзина княгиня Ханиш-Иль-Масхан, захваченная отрядом казаков под командованием Бековича при разгроме аула Карамурзина в 1825 г. За этот бой он был представлен Ермоловым к награждению орденом Св. Георгия 4-го класса, но Император Александр I первоначально отклонил представление, поскольку, по его мнению, «благополучно начатое дело, окончено совершенным истреблением более 300 семейств, из коих, конечно большая часть была женщин и детей невинных...» (Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис. 1904. Т. III. Ч. I. С. 193—197). 17 Ших-Гази-Хан-Мухаммед-мулла (Кази-мулла, Гази-Мухаммед) родился в аварском ауле Гимры. Лидер движения мюридов и первый имам Чечни и Дагестана. Погиб при взятии русскими войсками аула Гимры 17 октября 1832 г. 18 Источники не подтверждают это мнение Толстого. «Вина придерживался» отец Кази-муллы и его первый учитель кадий Сеид (Сагид) Эфенди Араканский (см.: Кавказский сборник. Тифлис. 1887. Т. XI. С. 109—110; Чичагов М. Н. Шамиль на Кавказе и в России. СПб. 1889. С. 20—21). 19 Мухаммед Ярагский, отшельник, известный религиозный деятель на Кавказе, сформулировавший основные принципы и положения мюридизма. На его дочери был женат Кази-мулла. 20 Автор ошибся в датировке, описываемые события происходили в 1831 г. 21 Такую же оценку этому событию давали многие современники. Так генерал-майор И. Н. Абхазов в письме к Б. Г. Челяеву писал в 1831 г.: «...две-три неудачи возстановят против нас всех горцев и даже всех наших верных подданных, ненавистных и непримиримых по душе врагов» (Кавказ николаевского времени в письмах его воинских деятелей // Русский архив. 1904. № 1. С. 125). 22 Переписку Бековича-Черкасского с А. А. Вельяминовым с 1827 по 1832 г. см.: РГВИА. Ф. 137. Оп. 1/188в. Св. 33. Д. 2. 23 В 1829 г. Бекович-Черкасский составил проект под названием «Замечания касательно просьбы кабардинского народа и средства улучшения благосостояния оного». В этой записке предусматривалось проведение ряда изменений в общественно-политической и экономической жизни кабардинцев (см.: Бушуев С. И. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик. 1956. С. 119—122; История Кабарды. М. 1957. С. 78). 24 Ошибка автора. Бекович умер в конце 1832 г. 25 Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838), генерал-лейтенант, родной брат генерала И. А. Вельяминова. Участник войн с наполеоновской Францией, Турцией и Персией, отличился в боевых действиях против горцев Кавказа. С 1831 г. — командующий войсками Кавказской линии. 26 Большинство мемуаристов дают схожую характеристику А. А. Вельяминова. Вот как, например, отзывался о нем в 1827 г. И. И. Дибич: «...имеет весьма хорошую репутацию насчет хладнокровия и распорядительности в сражении». (Русская старина. 1872. Т. 6. № 8. С. 262). 27 Вельяминов сблизился с А. П. Ермоловым в 1811—1812 гг., когда занимал должность командира 1-й легкой роты лейб-гвардии артиллерийской бригады. На штабную работу на Кавказ был переведен в 1816 г. Ермолов называл его «тезкой». 28 Толстой здесь допустил ошибку. Ермолов был уволен от должности 24 марта 1827 г. (См.: Военный сборник. 1868. № 11. Отд. III. С. 6—7.). До этого времени прибывший на театр военных действий с персами Паскевич находился под его командой. 29 Численность персидских войск завышена почти в 2 раза. Даже официальные биографы Паскевича называют цифры в 35 000 и 40 000 персов (см.: Бантыш-Каменский Д. М. Указ. соч. С. 213; Щербатов. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. СПб. 1890. Т. 2. С. 70—71). 30 Левкович Александр Иванович, поручик. Отличился также в бою при Аббас-Абаде в 1827 г., где захватил персидское знамя. Был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса и переведен в гвардию (см.: Архив Раевских. СПб. 1908. Т. I. С. 342, 354). 31 Юдин — майор, сын фельдфебеля, один из старейших офицеров Ширванского пехотного полка. За сражение при Елисаветполе награжден орденом Св. Георгия 4-го класса (имел также солдатский Георгий). Дослужился до чина полковника (см.: Кавказский сборник. Т. I. С. 59; Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб. 1888. Т. III. Вып. I. С. 165, 175). 32 Толстой описал фрагмент прорыва центра персидских войск, но ожесточенные схватки еще долго продолжались на флангах. 33 В. Г. Мадатов и Вельяминов были упомянуты в реляции. «По их приказанию, — писал Паскевич, — произошла атака в центре армии Аббас-мирзы, решившая Елизаветпольскую победу» (см.: Щербатов. Указ. соч. С. 80). Благодаря этому донесению к Императору Николаю I Мадатов получил чин генерал-лейтенанта, а Вельяминов был награжден орденом Св. Георгия 3-го класса. 34 16-й пехотной дивизии. 35 Л. О. Рот командовал 2-м пехотным корпусом. Взгляд Толстого на этого генерала разделяли многие современники. Например, Д. В. Давыдов так отзывался о Роте: «...право, волос дыбом становится, как подумаешь о несчастных, ему пожертвованных» (Сб. РИО. Т. 73. С. 533—534). 36 В 1830 г. 37 Десть — 24 листа. 38 Некоторые предложения Вельяминова были опубликованы, в частности, записка «Способ ускорить покорение горцев» (1828 г.), замечания на проекты Паскевича и Бюрно (1832 г.) см.: Кавказский сборник. Тифлис. 1888. Т. VII. 39 Лафет — боевой станок, на котором укреплялся орудийный ствол. 40 Лазарев Михаил Петрович (1788—1851), адмирал, известный мореплаватель. В 1833—1850 гг. — главнокомандующий Черноморским флотом. 41 Граббе Павел Христофорович (1789—1879), граф (с 1866 г.), генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Участник войн с наполеоновской Францией, Турцией, кампании 1831 г. в Польше. В 1825—1826 гг. находился под арестом как член Союза благоденствия. С 1837 по 1842 г. — главнокомандующий войсками на Кавказской линии и в Черномории. С 1855 г. — наказной атаман Войска Донского, с 1866 г. — член Государственного Совета. 42 «Из дворян сын титулярного советника лютеранского закона» (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1003. Л. 7 об.). Воспитывался в 1-м кадетском корпусе, из которого был выпущен подпоручиком в 1805 г. во 2-й артиллерийский полк. В гвардейскую конную артиллерию переведен 14 мая 1812 г. 43 С 1810 по 1812 г. Граббе находился по приказу М. Б. Барклая де Толли как военный агент в российском посольстве при Баварском королевстве для сбора разведывательной информации. 44 В своих записках Граббе утверждал, что в Кобурге Великая Княгиня Анна Федоровна не приняла его по причине болезни (см.: Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // Русский архив. 1873. Кн. 1. Стб. 419—420). 45 Граббе вернулся в Россию в апреле 1812 г. и привез Императору Александру I письма от его родственников из Германии, но этот факт вряд ли оказал серьезное влияние на дальнейшую карьеру этого офицера. Командование в лице Барклая де Толли по достоинству в первую очередь оценило собранные им разведывательные данные. 46 Официально он был назначен адъютантом к Барклаю де Толли. 47 В 1817—1822 гг. Граббе командовал Лубенским гусарским полком. 48 Граббе «не дозволил офицерам ехать верхом перед инспектором, который это потребовал, как экзамена» (Воспоминание Матвея Матвеевича Муромцева // Русский архив. 1890. № 3. С. 391). 4 марта 1822 г. он был отставлен «за явное несоблюдение порядка военной службы», но в 1823 г. принят вновь (см.: Мироненко С. В. Декабристы. М. 1988. С. 58). 49 Первой женой Граббе была Вера Михайловна Скоропадская (1801—1828). 50 Большинство мемуаристов дают такие же характеристики второй жены Граббе — Екатерины Евстафьевны Ролле, дочери иностранца, доктора медицины. 51 Глебов Михаил Павлович (1819—1847), друг и секундант М. Ю. Лермонтова на последней дуэли. «Молодой, красивый, до конца моложавый, как отрок» (Русская старина. 1873. Т. 7. № 3. С. 386—387). Служил офицером на Кавказе. В 1843 г. попал на полтора месяца в плен к горцам (деньги на выкуп собирали офицеры гвардии). Убит при осаде аула Салты 28 июня 1847 г. 52 Траскин Александр Семенович (1803—1855), генерал-майор. Участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг. С 1830 г. — в Генеральном Штабе, с 1837 г. стал исполнять обязанности начальника штаба войск Кавказской линии и Черномории, в 1839 г. был утвержден в этой должности. В генерал-майоры произведен в 1842 г. С 1846 г. состоял на гражданской службе, умер в чине тайного советника. 53 Урожденная Вревская, побочная дочь князя А. Б. Куракина. Третья жена Чернышева, урожденная графиня Зотова Елизавета Николаевна, приходилась ей родственницей со стороны князя Куракина. 54 Для офицеров Кавказского корпуса его фигура являлась предметом насмешек. Вот что писал о тучности Траскина в своих воспоминаниях К. Х. Мамацев: «...в нем было около десяти пудов весу: не знали, на какую лошадь его посадить... Кроме того, полковник Траскин, изнеженный до невероятности, не мог поместиться в обыкновенной палатке, для него везли огромную калмыцкую кибитку на нескольких повозках... еще молодой человек ...только мог заявить себя тем, что он съедал чуть ли не целого теленка в обед...» (ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 3. Д. 33. Л. 311—312). 55 Хорошо осведомленный Филипсон, в целом положительно характеризуя личные и деловые качества Траскина, более точно указал на причину его назначения на Кавказ: «... испортил свою карьеру тем, что стал в обществе слишком много говорить о своем участии в делах Военного Министерства и что князь Чернышев воспользовался удобным случаем и с почетом удалил его на Кавказ». (Русский архив. 1883. № 6. С. 258). 56 Орлов Алексей Федорович (1780—1861), князь (с 1856 г.), военный и государственный деятель. В 1844—1856 гг. шеф жандармов и главноуправляющий III отделением Собственной Е. И. В. канцелярии. С 1856 г. — председатель Государственного Совета. 57 Здесь искажена фамилия актера Василия Андреевича Каратыгина (1802—1853). О театральных манерах Граббе упоминал и Филипсон. (См.: Русский архив. 1883. № 6. С. 289). 58 Похожую характеристику давал Граббе и Филипсон: «...это человек с блестящими способностями, даром слова и образованием и, к сожалению, с огромною самоуверенностью, которая может внушить доверие людям, не знающим ни края, ни нашего положения». (Русский архив. 1883. № 6. С. 291). 59 Головин писал, что Граббе «заблаговременно уже составил план, котораго первым основанием было условие, чтоб ему действовать независимо от распоряжений корпуснаго начальства. Для этого он отправился в Петербург, где лично исходатайствовал себе разрешение, согласное с своими предположениями, не определяя, впрочем, сущности их, а обещая положительно самые важные результаты от своих предприятий, если только развязаны ему будут руки и даны все средства, которыя он потребует» (Кавказский сборник. Тифлис. 1877. Т. II. С. 56). 60 Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), граф, военный и государственный деятель. 61 По мнению Головина средства, которые запрашивал Граббе, «не только выходили из пределов умеренности, но и превышали всякую меру основательности в соображениях». «Подобное требование можно объяснить одним только — заблаговременно принятым намерением отказаться от военных предприятий, под предлогом недостатка в способах продовольствия, обратив всю вину на корпусное начальство» (Кавказский сборник. Т. II. С. 62—63). 62 Отряд Граббе (10 000 человек при 24 орудиях) 30 мая 1842 г. вышел из Герзель-аула в направлении Дарго через Ичкеринский лес. Для защиты вытянувшегося на несколько верст обоза была выделена почти половина войск. Ведя непрерывный бой в лесу с нападавшими со всех сторон горцами, отряд за три дня прошел лишь 25 верст. Поняв невозможность дальнейшего движения вперед, Граббе приказал возвращаться, что усилило натиск со стороны противника. При отступлении был брошен почти весь обоз и одно орудие. По данным Головина потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили: 66 офицеров и 1700 нижних чинов (см.: Кавказский сборник. Т. II. С. 65—67). Филипсон считал, что потери достигали 4000 человек. Он же привел выдержку из донесения Граббе к Императору Николаю I: «Войска Вашего Императорского Величества потерпели в Ичкеринском лесу совершенное поражение. От генерала до солдата все сделали свое дело. Виноват во всем один Я. Повергая себя вашему правосудию» (Русский архив. 1884. № 1. С. 332—333). 63 По данным Головина за 76 дней обложения Ахульго было убито три офицера и 487 солдат, из строя выбыло 140 офицеров и 2300 нижних чинов. (См.: Кавказский сборник. Т. II. С. 24). 64 До этого при посредничестве Биакая русское командование вело переговоры с Шамилем в Ахульго. 65 Единорог — старинное русское гладкоствольное орудие. 66 Описываемые события происходили 9 сентября 1839 г. В оправдание беспечности авангарда («даже ружья не были заряжены») можно привести факты неупоминаемые Толстым. Черкеевские старшины встретили хлебом с солью (фруктами) войска на мосту через Сулак и согласились на прохождение их через селение («До сих пор Черкей гордился тем, что в нем еще не бывала нога русского солдата»). Внезапное нападение совершила ватага буйной молодежи, недовольная решением стариков, и дала почувствовать, «что долина Сулака не есть Саратовская губерния». Потери отряда Граббе составили: 55 убитых солдат, два офицера и 93 нижних чина были ранены. После этого инцидента отряд Граббе совершил обходный маневр через Миатлы к селу Инчхе. Черкеевцы объявили о покорности русскому царю, вернули захваченные орудия, освободили пленных и в наказание передали в казну 40 000 из 150 000 баранов, имевшихся у 4000 жителей аула (см.: Кавказский сборник. Тифлис. 1885. Т. IX. С. 65—88). 67 Нейдгардт Александр Иванович (1784—1875), генерал от инфантерии. Участник войн с французами, шведами, турками, поляками. С 1823 г. — начальник штаба гвардейского корпуса. В 1842—1844 гг. командовал Отдельным Кавказским корпусом. В отставке с 1845 г. 68 Имеются ввиду воспоминания барона Торнау (Торнова) Федора Федоровича, офицера Кавказского корпуса, племянника Нейдгардта. 69 Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарович (1797—1855), генерал-лейтенант, генерал-адъютант. На военной службе с 1817 г. С 1830 г. служил на Кавказе, получил широкую известность своими боевыми действиями против горцев. Большинство современников положительно отзывались о нем и о его деятельности. В 1877 г. в Темир-хан-Шуре ему был воздвигнут памятник. 70 Клюки фон Клюгенау Франц Карлович (1791—1851), генерал-лейтенант. Уроженец Богемии. В составе австрийской армии участвовал в наполеоновских войнах. На русской службе — с 1818 г. Отличился в военных действиях против горцев. Мнения мемуаристов на его счет разнятся. Многие, отдавая должное его личной храбрости, писали о его неспособности «работать головой». 71 Пассек Диомид Васильевич (1808—1846), генерал-майор. В 1830 г. окончил Институт корпуса путей сообщений. На Кавказе — с 1840 г. Некоторое время был начальником штаба войск генерала Клюки фон Клюгенау. 3 июня 1844 г. за отличие был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса и получил чин генерал-майора. Погиб во главе авангарда, пробиваясь через Ичкеринский лес. 72 Гурко (Ромейко-Гурко) Владимир Осипович (1795—1852), генерал от инфантерии. С 1842 по 1845 гг. — командующий войсками Кавказской линии и Черномории. С 1845 г. — начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, с 1851 г. — начальник всех резервных и запасных войск. Отец генерал-фельдмаршала И. В. Гурко. 73 Татаринова (урожденная Буксгевден) Екатерина Филипповна (1783—1856). В 1817 г. из лютеранства перешла в православие, но не удовлетворенная официальными канонами церкви, организовала религиозный кружок, в состав которого входил Головин и члены его семьи. После 1825 г. деятельность кружка стала преследоваться правительством. В 1837 г. Татаринова была сослана в Кашинский Сретенский монастырь (см.: Толстой Ю. О духовном союзе Е. Ф. Татариновой // Девятнадцатый век. М. 1872. Кн. I. С. 220—234; Мальшинский А. П. Головин и Татаринова // Исторический вестник. 1896. № 9. С. 637—661). 74 Безобразов Сергей Дмитриевич (1801—1879), генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1831 г. получил звание флигель-адъютанта. С 1834 г. служил на Кавказе, с 1835 по 1841 г. командовал Нижегородским драгунским полком. 75 Толстой здесь допустил ошибку, жена Безобразова — Любовь Александровна, урожденная княжна Хилкова (1811—1859). Их семейная история получила скандальную огласку. Причину сцен ревности многие подозревали в любовной связи Императора Николая I с Безобразовой. 76 Ган Павел Васильевич (1793—1862), барон, тайный советник, член Государственного Совета. В 1837 г. был назначен председателем комиссии для рассмотрения на месте предложений для составления Положения об управлении Закавказьем. Представленные им Императору Николаю I материалы послужили одной из причин снятия Г. В. Розена с должности. 77 Касович Ф. А. — бывший штаб-доктор лейб-гвардии Егерского полка. С 1823 г. стал лечащим врачом своего полкового командира Головина. 78 Жена Головина — Елизавета Павловна, урожденная Фонвизина, сын Сергей, дочь Екатерина и ее муж — действительный статский советник Яков Владимирович Ханыков состояли в кружке Татариновой. 79 Раевский Николай Николаевич (1801—1843), генерал-лейтенант. Участник наполеоновских войн, русско-турецкой войны 1828—1829 гг. С 1837 г.-начальник Черноморской береговой линии. В 1841 г. вышел в отставку. 80 Служивший под началом Раевского Филипсон писал: «Государь читал эти обозрения с особенным удовольствием, часто показывал Императрице, смеялся над некоторыми искусно вставленными остротами и сарказмами и всегда немедленно разрешал все, чего испрашивал Раевский» (Русский архив. 1883. № 6. С. 308). 81 Приведем мнение Филипсона на счет поведения Раевского: «Его языка и пера очень боялись в Ставрополе и в Тифлисе. В сношениях с Петербургом он показал большую ловкость. Все его донесения туда были тщательно выглажены и имели много саркастического юмору и вообще оригинальнаго. Он был плохой подчиненный и то, что он часто писал о своих непосредственных начальниках, никому другому не сошло бы с рук, а его донесения Государь читал с удовольствием, хохотал и приказывал военному министру разрешить или дать то, чего Раевский просит. Я должен сказать, что в этих донесениях не всегда была строгая правда; особливо с цифрами Николай Николаевич не церемонился» (Русский архив. 1883. № 6. С. 269). 82 Официально Раевский был арестован на 8 дней за «излишнюю близость» к подчиненным. Поводом послужил обед, устроенный Раевским в сентябре 1829 г., на котором присутствовали разжалованные в рядовые декабристы и бывшие польские офицеры (см.: Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск. 1984. С. 445; Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск. 1984. С. 395—396). 83 Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852). Участник русско-персидской, русско-турецкой войн, польской кампании 1831 г. С 1836 по 1841 г. служил на Кавказе. Его сослуживец по штабу Раевского Филипсон считал, что он имел «замечательную чуткость к красотам литературы», но Раевский «не мог заставить Пушкина заниматься чем-нибудь серьезно, кроме писания под его диктовку» (Русский архив. 1883. № 6. С. 271—272). 84 Филипсон так характеризовал способности Раевского: «Он говорил и писал очень хорошо, впрочем вернее будет сказать, что он диктовал; если же самому приходилось написать несколько строк, выходила бессмыслица. У него мысль далеко опережала механизм рук». «В служебных делах и отношениях он не напускал на себя важности и все делал как будто шутя. Диктуя самую серьезную бумагу, он не мог удержаться, чтобы не ввернуть какую-нибудь остроту, насмешку или намек» (Русский архив. 1883. № 6. С. 267, 269). |
|
|
|
 13.3.2010, 3:02 13.3.2010, 3:02
Сообщение
#70
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Правда о коллективизации
Горы лжи наворочены вокруг одного из самых трагических событий в российской истории Александр Елисеев 12.03.2010 Бесспорно, в конце 20-х-начале 30-х годов прошлого века крестьянство подверглось ужасающему нажиму со стороны правящей партии и подконтрольных ей государственных структур. Это неоспоримо. В то же самое время вокруг тех событий – целые горы лжи и заблуждений. Как и события 1937-1938 годов, они используются для очернения СССР и всей истории России. И сегодня приходится эти монбланы разгребать, откапывая горькую и непростую правду. 1. Упущенное десятилетие Прежде всего, надо ответить на вопрос - а нужна ли была коллективизация как таковая? Может быть, России нужно было идти по пути развития крестьянско-фермерских хозяйств и постепенной их кооперации? Такая точка зрения преобладала в период перестройки, но за прошедшие два десятка лет историческая наука накопила достаточно данных для того, чтобы развеять этот миф. Для промышленной модернизации и, вообще, для развития экономики, нужны были крупные хозяйства. Только они и могли бы использовать новейшую технику, выступая в качестве основных потребителей промышленной продукции. Но с такими хозяйствами в России было очень плохо – гораздо хуже, чем до революции. В начале XX века существовали мощные помещичьи экономии, которые давали львиную долю всего собираемого хлеба. В 1917 году их ликвидировали, распределив доставшуюся землю между крестьянами. Это оказало сильный психологический эффект, которым всецело воспользовались большевики – в пропагандистских целях. Однако, в плане социально-экономической целесообразности великий передел ни к чему хорошему так и не привел. В целом, крестьяне получили не так уж и много земли, чтобы радикально поправить свое положение. Кстати, об этом предупреждали еще монархисты-консерваторы – до революции. По мнению монархистов, само увеличение земли после перераспределения могло быть только минимальным, почти не влияющим на производительность труда. Так, правый экономист граф А. Салтыков предсказывал, что в результате отчуждения даже всех помещичьих, казённых, удельных и т.п. земель крестьяне получат по одной четверти земли в индивидуальном исчислении. Граф почти не ошибся со своими «реакционными» прогнозами – крестьяне получили по 0, 5 десятины на одно хозяйство. Эта прибавка не могла компенсировать падение капитализации сельского хозяйства, которая в 1926 году составила всего лишь 83 % от довоенного уровня. А ведь был и рост населения. В результате, в конце 20-х годов производство зерна сократилось с 584 кг на душу населения до 484 кг. Землицы прибавилось не так, чтобы уж слишком, зато возникло много новых крестьянских хозяйств. Если до войны их было 16 миллионов, то уже в 1923 году на селе было занято 26 миллионов хозяйств. При этом было потеряно десять лет, которые можно было бы использовать для модернизации. То есть, разрыв между Россией и Западом за революционное десятилетие только увеличился. Какая уж тут индустриализация – речь шла о невозможности любого развития и даже просто стабильного существования. Так, зимой 1927/1928 крестьянские хозяйства отказались продавать хлеб государству по установленным ценам, надеясь на их повышение. Это уже была угроза голода, которая изрядно напугала руководство, прибегнувшее к чрезвычайным мерам. Собственно говоря, именно после этого кризиса и началось наступление на деревню. Безусловно, вина за кризис лежит и на самом руководстве, которое «баловалось» широкомасштабной эмиссией. Это и подтолкнуло крестьян к зерновой забастовке. И в самом деле, кому же захочется получать обесцененные деньги за реальный товар? Но с другой стороны – а откуда государству было взять денег? НЭП вытащил страну из разрухи, но он не вывел советскую экономику в разряд сильных – для этого, опять-таки, требовалась индустриализация. Что же, нужно было залезать в долги, клянча деньги у Запада? Но ведь деньги никто бы не дал просто так, западные страны потребовали бы политических уступок – вплоть до реставрации капитализма. 2. Ее величество историческая неизбежность Возразят – но, может быть, как раз это и был бы достойный выход? Все же лучше, чем ужасы коллективизации. Ну, что такое реставрация капитализма, мы увидели в лихие 90-е. И человеческих жизней она унесла огромное количество, счет должен идти на сотни тысяч. А ведь все еще происходило относительно мирно – без широкомасштабных военно-политических столкновений. И обусловлено это было отсутствием организованного лагеря убежденных сторонников социализма. То есть, очень многие были против реставрации, однако они так и не предприняли каких-то решительных действий. За оружие никто браться уж точно не хотел. А вот в 20-е годы все было иначе. В стране, которая только что вышла из гражданской войны, были сотни тысяч убежденных и горячих сторонников социализма, многие из которых носили оружие – легально и нелегально. Они бы, конечно, не примирились ни с какой реставрацией. Кроме того, надо иметь в виду, что в 80-е годы мы имел индустриальную развитую державу. Демонтаж социализма серьезно ослабил ее, но костяк все-таки сохранился. К слову, благодарю ему, Россия существует до сих пор. Ресурс, выработанный социализмом, был таким мощным, что мы донашиваем его и сейчас. Но в 20-е годы такого ресурса просто не существовало, поэтому любой прогиб перед Западом был бы чреват откатом на два столетия назад. Конечно, можно было постепенно развивать кооперацию – от низших форм к высшим, как это предлагал лидер «правого уклона» Н. Бухарин. Но времени на это не было, нужно было срочно создавать оборонную промышленность. СССР находился не на Луне, а существовал в условиях враждебного окружения. Все упиралось в геополитику, которая требовала форсированной индустриализации. Ну, а она, соответственно, требовала форсированной коллективизации, призванной создать крупные аграрные хозяйства. Причем, коллективизация эта, как ни прискорбно, могла идти только за счет села, ибо денег, как уже было сказано выше, не было. Оставалось только одно – взять у деревни. Кому-то это покажется циничным, но такова суровая правда истории. В эпоху буржуазного Модерна европейский город тоже грабил деревню. В Англии так вообще согнали всех крестьян с земли, что не идет ни в какое сравнение с ужасами нашей коллективизации. 3. Кулаки и бедняки А если по большему счету, то «коллективизация по-сталински» была запрограммирована Февральской революцией 1917 года. До Февраля Россия имела шанс провести индустриализацию в относительно мягком формате. Вспомним, что наша страна занимала первое в мире место по темпам роста промышленного производства – без массовой пролетаризации. (Рабочие составляли где-то 10 % всего населения.) Этот феномен до сих пор еще не изучен должным образом, и какого-то четкого объяснения здесь нет. Возможно, причину нужно искать в особенностях русской промышленной организации. Так, в России была самая высокая концентрация рабочей силы. В 1913 году на крупных отечественных предприятиях (свыше 1 тысячи работников) трудилось 39% всех рабочих (тогда как в Германии — 10%). В одном только Петербурге было сосредоточено 250 тысяч фабрично-заводских пролетариев. Но страна предпочла отказаться от монархии, и пошла путем революции. При этом активное участие в ней приняли крестьяне, еще до Октября 1917 года развернувшие настоящую классовую войну на селе. Тогда многие помещичьи усадьбы были уничтожены и разграблены, а их обитатели подверглись казням (порой весьма изощренным). Любопытно, что в авангарде грабителей находились как раз именно зажиточнее крестьяне. В ноябре 1917 года министр земледелия уже подпольного Временного правительства Н. Ракитников в своем циркуляре писал о грабежах, именуемых «аграрным движением»: «… Выигрывают при таком движении только богатые, кулацкие элементы деревни, у которых есть на чем развозить и растаскивать помещичье добро, а бедняки и солдатки остаются ни при чем». Вот и возникает вопрос – не был ли 1933 год расплатой за 1917-й? Показательный момент - когда раскулачивали многих зажиточных, то у них часто находи разную барскую утварь (от сеялок до патефонов). А немного позже наступит и 1937-й год, ставший последним годом жизни многих коллективизаторов и героев революции, которая затягивала в свою воронку целые слои, принимавшие в ней активное участие. Спрашивается – можно ли всерьез рассуждать о возможности какой-то мягкой модернизации после 1917 года? Самих кулаков у нас, в последнее время, принято представлять едва ли не ангелами. Считается, что это были крепкие, хозяйственные мужики, лояльные к советской власти и мечтавшие только о том, чтобы спокойно работать на своей земле. Дескать, только коллективизация и заставила этих «рачительных хозяев» взяться за обрезы. Между тем, еще во времена НЭПа, «органам» поступала информация о весьма враждебном настрое сельской верхушки. «В ходе военной тревоги 1927 г. органы политического контроля выявляли настроения различных социальных групп связанные с ожидаемой войной, - пишет А. Мелия. - Наибольшую озабоченность вызывали настроения среди «кулаков», белых офицеров, реэмигрантов, бывших участников восстаний, «реакционного духовенства» и сектантов. Среди этих групп были распространено не только нежелание идти на войну, но и желание воспользоваться войной для свержения существующей власти. В докладах органов ОГПУ высшему политическому руководство приводятся такие характерные для этих групп высказывания: «если только нас не переарестуют, то пойдем воевать против советов» («бывший участник восстания»), «война неизбежна и необходима, так как советская власть для крестьян неподходящая. Если бы только возникла война, то мы обязательно многих загнали бы в землю» (собрание «кулаков» в доме священника); «война будет и она нужна, ибо на шее крестьян сидят жиды и комиссары. Во время войны можно будет с ними расправится»; «опять сделаем восстание, но не так, как делали в январе 1924 года, сейчас придут иностранные войска». («Большой террор» и мобилизационное планирование») Понятно, что руководство знало об этих настроениях и делало из них соответствующие выводы. Кулак, в огромном количестве случаев, выступал как враждебная сила, готовая ни много, ни мало, поддержать иностранное вторжение в СССР. Причем, само кулачество захватывало власть над селом, что в условиях аграрного общества было равносильно установлению экономического диктата. «В результате спонтанно возникшего свободного рынка 7% крестьян (2,7 млн. человек) вновь оказались без земли, - пишет О. Арин. - В 1927 г. 27 млн. крестьян были безлошадными. В целом 35% относились к категории наиболее бедных крестьян. Большая часть, средние крестьяне (около 51-53%), имели допотопные орудия труда. Количество богатых-кулаков — составляло от 5 до 7%. Кулаки контролировали около 20% рынка зерна. По другим данным, на кулаков и верхний слой середняков (около 10-11% крестьянского населения) в 1927-1928 гг. приходилось 56% продаж сельскохозяйственной продукции. В результате «в 1928 и 1929 гг. вновь пришлось нормировать хлеб, затем сахар, чай и мясо. Между 1 октября 1927 г. и 1929 г. цены на сельхоз. продукты выросли на 25,9%, цены на зерно на свободном рынке выросли на 289%». Экономическую жизнь страны, таким образом, начал определять кулак». («Факты против фальши») Сложилась довольно-таки интересная ситуация. Социалистическая революция привела к установлению хозяйственной гегемонии сельской буржуазии, которая сменила помещиков, но при этом так и не достигла их уровня хозяйствования. Причем, на селе существовал четко выраженный антагонизм между богатыми и бедными. К слову, о бедных. В 80-е годы стало модным повторять кулацкую «отмазку» про то, что бедные – дескать, лодыри, которые были горазды только пить, да гулять – отсюда и само бедственное положение. Факты и здесь опровергают мифы. «По опросам одной из волостей Пензенской губернии выяснилось, что 16 — 26% бедных крестьянских хозяйств образовалось по причине разделов больших семей; 14 — 38% из-за отсутствия работника; 20 — 60% дали стихийные бедствия, в основном, пожары (такой разброс в цифрах происходит оттого, что пожары в деревнях редко ограничиваются одним двором), 10% - по причине ухода работника в Красную Армию, столько же по болезни кормильца, и всего 8% представляли собой хронические неудачники, собственно «лодыри», как называли их крестьяне, - сообщает Прудникова на форуме http://kuraev.ru. - Из них только п.2 — отсутствие работника — может быть связан с войной, остальные — постоянные факторы. Одни неимоверными усилиями выбивались из бедноты в середняки, другие по разным причинам — пожар, болезнь или смерть кормильца, павшая лошадь — туда погружались, обеспечивая постоянный обмен внутри 80%-й группы, которая на самом-то деле вся была бедняцкой, и только агитпроп не позволял признать ее таковой». («Противникам коллективизации посвящается…») 4. Кнутом и пряником Коллективизацию часто представляют как один сплошной нажим на село, изредка ослаблявшийся – в тактических целях. Между тем, это весьма упрощенное представление. Для коллективизации была характерна довольно-таки сложная динамика. И либерализация здесь значила не меньше, чем ужесточение. 2 марта 1930 года в «Правде» была опубликована статья И. Сталина «Головокружение от успехов», осудившая «перегибы» во время коллективизации. А чуть позже, 14 марта Политбюро ЦК ВКП (б) выпускает постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». Партийная верхушка официально признала серьезные ошибки («перегибы»), допущенные в отношении крестьянства. После мартовских решений произошел массовый отток крестьян из колхозов. Причем, власти, в течение шести месяцев, вообще не проявляли никакой активности по привлечению туда жителей села. Лишь в сентябре 1930 года партийно-государственное руководство возобновляет коллективизацию села. Теперь упор делался на агитацию и пропаганду, а также на материальное стимулирование. В сжатые сроки были созданы тысячи вербовочных бригад и инициативных групп, которые всячески зазывали крестьян в колхозы. В наиболее трудные районы власти направили 80 тысяч колхозных активистов. Началось оснащение села техникой. Если в 1930 году в распоряжении машинно-тракторных станций (МТС) было всего лишь 7 тысяч тракторов, то уже в 1931 году их число достигло 50 тысяч. Колхозам были предоставлены существенные льготы и кредиты, для них снижали нормы сдачи продуктов животноводства. Им же всячески помогали в создании животноводческих ферм. В марте 1932 года руководство решительно осудило принудительное обобществление скота, а в мае колхозам разрешили торговать (после выполнения обязательных поставок) продукцией по рыночным ценам. При этом план заготовок был существенно сокращен – до 1100 миллионов пудов (против 1367 миллионов в 1931 году). В январе 1933 года была отменена «договорная» система, которая предоставляла возможность назначать крестьянам какие угодно высокие показатели. Теперь на них возлагались жестко фиксированные обязательства, повышать которые строго запрещалось. Наконец, в феврале 1935 году был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели (колхоза), в котором крестьянам гарантировалась возможность ведения личного подсобного хозяйства – в самых широких масштабах. Показательно, что уже к концу второй пятилетки в этих хозяйствах было произведено 70, 9 % мяса и 71, 4 % молока. Конечно, «пряник» сочетался с кнутом. Так, осенью 1930 года начинается новый этап раскулачивания, который сопровождался массовой высылкой крестьян. Всего в этом году (по данным Объединенного государственного политического управления - ОГПУ) было выслано 1 803 392 человек. В 1931 году на спецпоселения прибыли 71 236 человек (в том же году умерли 89 754 поселенцев). А в 1933 году эти цифры составили 268 091 и 151 601 человек соответственно. В период с 1932 по 1940 года из ссылки бежали 629 042 человека, было возвращено - 235120 человек. (В. Земсков. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы») В августе 1932 года был принят печально известный закон о «трех колосках», который предусматривал расстрел за хищение колхозного имущества. Это уже было проявлением революционного терроризма на государственном уровне. Существует представление о том, что расстрелу подверглись едва ли не все «проходящие» по этому закону. Однако масштабы тут явно завышены. Смертных приговоров по «закону о трех колосках» было вынесено 6 % (всего осуждено – 100 тысяч). Кроме того, само хищение было очень серьезной проблемой. Вот один только пример – в августе 1932 года «Правда» писала о хищении в Кунцевском районе Московской области, в результате которого группой лиц было присвоено около 50 пудов уже готового колхозного овса, вывезенных на 12 (!) подводах (всем обвиняемым дали по 10 лет). («Исторический смысл закона «о трех колосках» // ihistorian, жж-блогер) 5. Творцы «перегибов» Отдельно стоит вопрос о степени вины высшего руководства и лично Сталина. Бесспорно, вождь СССР был повинен в пресловутых «перегибах», ответственность за которые с него никому не снять. Но особая ответственность лежит и на региональных руководителях, которые довели ошибочную политику Кремля до абсурда. Так, И. Варейкис, руководивший в то время Центрально-Черноземной областью увеличил процент обязательной коллективизации с 5,9% на 1 октября 1929 года до 81,8% к 1 марта 1930 года. Причем, сделал он это по собственной инициативе. Первоначальный план предусматривал завершение в регионе сплошной коллективизации к весне 1932 года. Но Варейкис на областном собрании партактива призвал осуществить ее к весне 1930 года. Еще один местный князек – К. Бауман довел процент коллективизации в Московской области с 3,3 до 73%. Регионалы часто сами подталкивали Москву к усилению пагубной чрезвычайщины. Так, П.Б. Шеболдаев, секретарь Нижне-Волжского крайкома, просил обеспечить высылку кулаков, предлагая для выполнения данной задачи «ускорить опубликование декретов и присылку работников». Регионалы действовали гораздо более радикально, чем того от них требовал Сталин, забегая вперед центрального руководства. Еще за три дня до принятия постановления Политбюро ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств» первый секретарь Западно-Сибирского крайкома Р.И. Эйхе заявил на партактиве в Новосибирске: «Первое, что нам придется провести, это экспроприация средств производства у кулачества, экспроприация живого и мертвого инвентаря, его хозяйственных и жилых построек». Причем он имел в виду повсеместное раскулачивание, хотя Политбюро считало, что надо ограничиться одними лишь районами сплошной коллективизации. Весьма показательно поведение руководителя Средне-Волжского крайкома М. Хатаевича, который создал в крае «боевой штаб» по раскулачиванию. Этот деятель планировал арестовать 5 тысяч человек и собрать 15 тысяч семей для выселения. Зарвавшийся князек додумался раздать коммунистам края оружие, что уже попахивало гражданской войной. Эти «перегибы» не на шутку встревожили Кремль, и Сталин (вместе с Молотовым и Кагановичем) послал в край телеграмму, в которой было определено: «Ваша торопливость в вопросе о кулаке ничего общего с политикой партии не имеет». От Хатаевича потребовали прекратить аресты, но он просто-напросто отказался выполнять это распоряжение, ответив: «Арест кулацко-белогвардейского актива приостановить не можем, ибо он почти закончен». При этом он имел наглость написать (уже в апреле 1930 года) Сталину письмо, в котором все попытался свалить на центр: «Приходиться выслушивать много жалоб; что зря нас всех объявили головотяпами. И действительно, надо бы дать указание нашей центральной прессе, чтобы при критике допущенных искривлений и перегибов в колхозном строительстве шельмовали и крыли не только низовых работников». При всем при том, Хатаевич откровенно лгал Сталину, утверждая, что арест раскулаченных проводился лишь в районах сплошной коллективизации. На самом же деле «кулаков» арестовывали везде. Что ж, Хатаевичу было не привыкать врать. Именно он дезинформировал высшее руководство в декабре 1929 года, когда сообщал о 35% коллективизации в своем крае (в реальности коллективизировано было всего 20%). Впрочем, справедливости ради надо отметить, что дезинформацией занимались тогда (и не только тогда) многие другие «старые большевики». Так, председатель Колхозцентра Г. Каминский докладывал 15 декабря 1929 года о том, что в Центрально-Черноземной области Льговский округ коллективизирован полностью, а Тамбовский – на 60%. Настоящие же цифры были таковы – 60% и 9,9% – соответственно. На основании липовых данных Каминский предложил совершенно нереальные темпы коллективизации. Он планировал осуществить сплошную коллективизацию за 3-4 года, причем в зерновых районах сроки были предложены такие – от восьми месяцев до полутора лет. Получается, такие люди как Каминский несут не меньшую, чем Сталин, ответственность за многочисленные жертвы коллективизации. 6. Игра на чувствах Самая черная страница коллективизации – голодомор, унесший сотни тысяч жизней. Между тем, и здесь масштабы сильно преувеличены. Прежде всего, нужно заметить, что разоблачение голодомора с самого начала сопровождалось откровенными фальсификациями. В этом плане особо выделяется деятельность американского журналиста Т. Уолкера, который опубликовал много статей про коллективизацию, сопровождаемых жуткими фотографиями. Его коллега и соотечественник Л. Фишер выяснил, что этот бойкий «папарацци» никогда и не был на Украине, а провел шесть дней в Москве, после чего выехал в Маньчжурию. Другой американец Д. Кейси доказал, что свои знаменитые фото Уолкера («ребенка-лягушки» и т. д.) были сделан в Западной Европе времен Первой мировой войны. (Кстати сказать, отечественные исследователи недавно пришли к выводу о том, что у американцев был свой собственный «голодомор» - в 30-е годы - http://kp.ru/daily/24346.4/535294) Историк С. Миронин, указавший на эти обстоятельства, особо останавливается на творчестве англичанина Р. Конквиста, изрядно потрудившегося на ниве разоблачения сталинизма: «Наиболее известный фальсификатор «Голодомора» — англичанин Р. Конквест (R. Conquest). Свою известность Конквест приобрел благодаря книгам «Великий террор» (1969), изданной в США по заказу ЦРУ, и «Жатва скорби» (1966). В числе источников, откуда Конквест заимствовал аргументы о «голодоморе» и репрессиях в СССР, оказались художественные произведения В. Астафьева, Б. Можаева и В. Гроссмана, украинских коллаборационистов Х.Костюка, Д.Соловья. Зарубежные ученые-советологи А. Гетти, Г. Хертле, О. Арин, А. Даллин и другие специалисты, исследуя технологию фабрикации представителями комиссии конгресса США информации о голоде на Украине, обнаружили, что 80% свидетельств проходят с отметкой «Анонiмна жiнка», «Анонiмне подружжя», «Анонiмний чоловiк», «Марiя №» и т.д. Канадский журналист Дуглас Тоттл в книге «Фальшивки, голод и фашизм: миф об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда», опубликованной в 1987 г., доказал, что Конквест в своей книге использовал устрашающие фотографии голодных детей из хроники Первой мировой войны и голода 1921 г. Между тем В. Ющенко, став президентом Украины, не замедлил наградить Р. Конквеста орденом Ярослава Мудрого V степени за «привернення уваги мiжнародноi спiльноти до визначения «голодомору» 1932—1933 рокiв актом геноциду украiнського народу». («Сталинский порядок») Уже один сам факт фальсификаций заставляет задуматься о многом. Но, конечно, самое возмутительное и циничное – преувеличение масштаба жертв голода. Тут, как и в случае со сталинскими репрессиями, имеет место игра на чувствах людей, желание поразить их космическими масштабами. Называется даже цифра в 15 миллионов погибших, что совсем уже неприлично. Хотя большинство исследователей-антисталинистов предпочитают говорить о 6-8 миллионах. В то же самое время основательные историки (многие из которых ничуть не сталинисты) оценивают масштабы гибели от голода весьма осторожно. Никакой точной статистики здесь нет, поэтому приходится оперировать косвенными данными. Так, В. Земсков обращается к данным демографии: «…Благодаря демографической статистике мы знаем, что в 1932 году на Украине родилось 780 000 человек, а умерло - 668 000, в то время как в 1933 году родились 359 000, а умерли - 1,3 млн. В эти цифры включена естественная смертность, однако ясно, что главной причиной смерти в эти годы стал голод». («Все жертвы Сталина» // Интервью газете La Vanguardia) Цифры, конечно, страшные, но это не 7 миллионов и даже не 3 миллиона, о которых говорят рьяные обличители. А ведь большинство погибших от голода были жителями Украины. Коллективизация, вне всякого сомнения, была страшной трагедией. Все ее преступления и ошибки были обусловлены, прежде всего, масштабами той революционной ломки, которая произошла в 1917 году и которая была отражением грандиозного кризиса русского цивилизации. Тем не менее, русский народ и другие народы СССР смогли выдержать страшные испытания «великого перелома» и осуществить полномасштабную модернизацию страны. При публикации материала использована репродукция с картины народного художника России Дмитрия Белюкина "Зеркало". Специально для Столетия |
|
|
|
 16.3.2010, 4:38 16.3.2010, 4:38
Сообщение
#71
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Последний банкир империи
Виктор Геращенко - о золотом запасе КПСС, приключениях советских банкиров на "загнивающем Западе", тайных операциях резидентов и нерезидентов, о роли баскетбольного кольца в карьере финансиста, а также о рождении Геракла "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех". Слава этого человека находится в полном соответствии с принципами, сформулированными в его любимом стихотворении Пастернака: биографии Виктора Геращенко хватило бы, пожалуй, на десятерых. Трудно сказать, какие ее страницы привлекут наибольшее внимание будущих летописцев. Но есть основания предполагать, что в историю он войдет как "последний банкир Империи". - Виктор Владимирович, сегодня, спустя почти 20 лет после краха СССР, можете признаться, куда дели "золото партии"? - Чушь все это. Да, знаю, писали, что "Геращенко спрятал деньги КПСС", что где-то в Швейцарии открыт счет на мое имя, на который, мол, утекала партийная валюта. Но можно ведь написать и не такое, бумага все стерпит. Впрочем, эти слухи нельзя назвать совсем уж безобидными: из-за них меня несколько раз таскали в прокуратуру. Первый раз - сразу после путча. Следственная группа по "делу ГКЧП" сидела в одном из цековских зданий на Старой площади. Сформирована она была из прокурорских работников, командированных из других регионов и ничего, увы, не смысливших в финансовых делах. Ну вот, вызывают, прихожу: в кабинете двое парнишек. Начинают расспрашивать о деньгах КПСС. Объясняю: "Ребята, все очень просто. Надо поднять документы Минфина, посмотреть, какая сумма была выделена управлению делами ЦК на 1991 год и как она использована". Дело в том, что в валютном плане Министерства финансов СССР была отдельная статья - лимит КПСС. Но он был мизерным. Касса КПСС, находившаяся во Внешторгбанке СССР (в 1988-м его переименовали во Внешэкономбанк), насчитывала всего 10 миллионов долларов. Правда, это был неснижаемый остаток, пополнявшийся по мере расходования средств. Партийная валюта шла в основном на поддержку печатных изданий "братских" компартий. Конечно, бумагу, например, мы могли им просто подарить. Но они были вынуждены покупать ее у нашего "Экспортлеса" по рыночной цене: иначе прижмут свои же таможенники и налоговики. Учет был очень строгий. Выдавали деньги зампред правления ВТБ - мне тоже приходилось этим заниматься в бытность первым замом, - главбух и кассир. Причем открыть кассу можно было только втроем. Составлялся акт, представитель ЦК давал расписку и забирал наличные. Затем деньги диппочтой направлялись в наши посольства. "Иностранным товарищам" их передавали, как правило, резиденты КГБ, работавшие под дипломатическим прикрытием. У кагэбэшников, к слову, тоже была валютная касса во Внешторгбанке. Но и там была не ахти какая сумма - 25 миллионов долларов. К тому же не только в свободно конвертируемой валюте, но и в банкнотах стран третьего мира. Был, например, такой случай. Зампред ВТБ звонит Цвигуну (Семен Цвигун, первый зампредседателя КГБ) и раскрывает тому глаза: "Куда ваши спецы смотрят?! В Гвинее во всю идет обмен денег, а в вашей кассе полно их франков. Нужно срочно отправить самолетом!" Возможно, конечно, что были и какие-то дополнительные каналы, параллельные госбанковским, но мне о них ничего неизвестно. Потом, уже в 1992 году, я предлагал следователям поискать, куда делись эти деньги. Тоже ведь любопытно. Однако такие суммы им были совершенно не интересны... Через какое-то время вызвали еще раз - уже к руководителю следственной группы. В память врезалось окончание того допроса. Когда следователь составлял протокол, я обратил внимание на лежащий у него на столе список союзных руководителей. Присмотрелся: в числе прочих - Николай Талызин. "Его, - интересуюсь, - тоже будете допрашивать?" "Конечно, - отвечает, - он же председатель Госплана". А Талызин на тот момент уже полтора года как умер... Таким был уровень этого горе-следствия. Слава богу, "пытали" меня тогда не долго, и никакого криминала в моих действиях, естественно, не нашли. - А вот Георгий Матюхин, первый председатель российского Центробанка, и по сей день утверждает, что после ревизии доставшегося ему госбанковского "наследства" он недосчитался 12 миллиардов долларов валютного резерва и 300 тонн золота. По его версии, советские сокровища "еще в августе 1991-го на пароходах вывезли за границу". Более того, по словам Матюхина, его сняли в 1992 году именно за то, что он проявлял чересчур большое любопытство по поводу судьбы этих денег. Мол, новая власть откупилась ими от старой и пожелала предать этот факт забвению. Что скажете? - Матюхин в принципе неглупый человек. Просто, как говорится, оказался заложником обстоятельств. У него были интересная докторская диссертация, ряд неплохих научных публикаций. Но в банке до своего назначения он никогда не работал. Чем вызваны эти его заявления, мне абсолютно непонятно. "Новая власть откупилась от старой..." Да какой смысл откупаться, если после путча и так все было в руках Ельцина и его команды? Что же касается государственных валютных резервов, то, конечно, имелись определенные ликвидные средства. Но, во-первых, вывозить их резона не было, поскольку они размещались в основном за рубежом - на депозитах и в ценных бумагах. А во-вторых, не берусь назвать точные цифры, но это, опять же, были не слишком большие суммы. Тех огромных резервов, о которых говорит Матюхин, на тот момент просто не могло быть: страна жила в кредит, к концу 1991 года долг СССР перевалил за 70 миллиардов долларов. Думаю, подобные мифы рождались в результате некомпетентности мифотворцев и общей "революционной" неразберихи того времени. Ведь как зачастую было? Приходят "комиссары" новой власти в Минфин, Госплан, Госбанк. Им говорят: надо бы сдать, как полагается, дела. "Не надо, мы сами во всем разберемся". Ну вот и разобрались - в меру своих знаний и своих фантазий. То же самое можно сказать по поводу золотого запаса. Золота в Госбанке было ровно столько, сколько его выделялось из Гохрана для продажи за границу - примерно 40 тонн в год. Размещалось оно в нашем хранилище в Настасьинском переулке. Мы были по существу перевалочным пунктом. Когда Внешторгбанк выходил на рынок, слитки запаковывали в деревянные ящики, везли в аэропорт и отправляли рейсовыми самолетами в Цюрих. В одну "тушку" с демонтированными креслами влезало семь тонн. Сначала, кстати, мы продавали золото в Лондоне. Но в середине 60-х швейцарцы вышли на нас с предложением - торговать через них. У них, мол, тише: меньше будет болтовни. Наши подумали, согласились, и в 1966 году в Цюрихе появился наш банк "Восход". До определенного момента СССР расставался с "презренным металлом", так сказать, по мере необходимости. А необходимость возникала, как правило, в случае неурожая - когда требовалось закупать за границей большие объемы зерна. Американцы с помощью своих спутников без проблем вычисляли "временные трудности" в деле подъема советского сельского хозяйства, и цены на рынке золота резко падали в ожидании наших интервенций. В конце концов Алхимову (Владимир Алхимов, председатель правления Госбанка СССР в 1976-1986 годах. - "Итоги") удалось пробить решение этой проблемы: продавать золото стали понемногу, но регулярно, не создавая ажиотажа. К остальному золотому запасу мы отношения не имели. Он находился в Гохране, подчинявшемся Минфину, в хранилищах, которые были разбросаны по всей стране. Сколько всего у нас тогда было золота, мне неизвестно. Говорю, не кривя душой: у председателя Госбанка не было доступа к этой информации, она всегда шла, как мы говорили, с "двумя сергеями" - грифом "совершенно секретно". Эти цифры знали генсек, председатель Совета министров, министр финансов - вот, пожалуй, и все. Думаю, замы премьера или, скажем, заведующий экономическим отделом ЦК уже не входили в круг посвященных. - Но ведь при такой секретности и при той неразберихе, которая царила в 1991-м, часть золота и впрямь могла исчезнуть. - Не могу ручаться, что никто ничего не своровал на каком-нибудь аффинажном заводе. Так сказать, в частном порядке. Но что касается появляющихся иногда сообщений о пароходах или самолетах, на которых якобы вывозились сотни тонн золота, то, по-моему, это не более чем легенды. Секретно, чтобы знали не более десяти человек, такую операцию провернуть невозможно. Неизбежно пришлось бы вовлекать массу людей. На всех этапах: погрузка, транспортировка, таможня, пересечение границы... Да и за рубежом возникло бы не меньше проблем. Где разместить такие объемы? Сделать это втайне от всех нереально. Помните, наверное, скандал с Bank of New York, который в 1990-е годы облюбовали некоторые наши олигархи. Потом туда нагрянуло ФБР: что за средства, откуда, почему такие большие? А ведь деньги спрятать куда легче, чем золото. Единственное, по поводу чего у меня есть сомнения, - это рублевые средства КПСС. Партия располагала огромной собственностью: взносы 17 миллионов членов партии, недвижимость, имущество... У Кручины (Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС) был большой аппарат, причем некоторые из его помощников носили кагэбэшные погоны. И возможности, конечно, тоже были немаленькие. Тут еще нужно учитывать, что в 1988-1990 годах были ликвидированы валютная и внешнеторговая монополии государства. Право на экспортно-импортные операции получили не только госпредприятия и кооперативы, но даже местные советы. Не исключаю, что в этот период партийные рубли могли быть под шумок вывезены за пределы страны и конвертированы в валюту. Однако это, разумеется, не более чем предположение. Конечно, достаточно странно на этом фоне выглядит смерть Кручины (26 августа 1991 года управделами ЦК выпал при неясных обстоятельствах с балкона своей квартиры. - "Итоги"). Но о том, что там было на самом деле, выбросили его или он сам выбросился, ничего, поверьте, сказать не могу. Просто не знаю. - Вернемся к более ранним страницам вашей биографии. Вы называете себя "банкиром по стечению обстоятельств". Не чересчур ли высокая оценка роли случая в выборе жизненного пути для представителя, можно сказать, банкирской династии? Известно, что в главный банк страны вы попали в первый раз чуть ли не в младенческом возрасте. Разве обстоятельства могли сложиться как-то по-иному? - Да, действительно, мне было три с половиной года, когда я впервые оказался в здании Госбанка СССР на Неглинной (сейчас здесь находится Центробанк РФ. - "Итоги"). Это историческое - для меня во всяком случае - событие случилось незадолго до войны, в мае 1941-го. Отцу, который был тогда зампредседателя Госбанка, понадобилось зачем-то съездить на работу в воскресенье, и он взял меня с собой. Отчетливо помню, как выглянул с балкона во двор банка и увидел стоящего на посту бойца - госбанковские учреждения охраняли тогда войска НКВД. Запомнился шлем, похожий на буденовку, и блестящий штык винтовки... Но несмотря на раннее знакомство с местом моей будущей работы, она меня поначалу совсем не привлекала. Помню, с какой неохотой отвечал на вопросы о том, где работает отец. Профессия банкира казалась в те годы совсем не престижной. Никакой романтики. Еще в седьмом классе я собрался поступать на юридический. Решил: буду бороться с несправедливостью. Правда, дома меня в конце концов отговорили: мол, в нашем самом справедливом в мире обществе юристов и так девать некуда. Тем не менее идти по стопам отца я по-прежнему не намеревался. Не хотел, чтобы пошли разговоры, что пролез, дескать, по блату. И после окончания школы подал заявление в экономический институт. Но там в это время разгорелся конфликт между преподавателями и директором. Чтобы разобраться, кто прав, кто виноват, была создана комиссия, которую возглавил мой дядя - замминистра высшего образования. И мне посоветовали забрать от греха документы. Неровен час, комиссия примет сторону администрации, и антидиректорская оппозиция в отместку завалит меня на экзаменах. Делать нечего, пришлось идти в Московский финансовый институт. Думал, отучусь полгодика и после сессии переведусь в экономический: предметы-то на первом курсе одни и те же. Но еще в школе я увлекся баскетболом, а в финансовом была довольно сильная команда. Я сразу стал играть за институтскую сборную. Вместе со мной, кстати, играл Валентин Павлов, будущий советский премьер (он учился на курс старше). Появились друзья, возник интерес к будущей профессии... Словом, спустя полгода мне уже не хотелось никуда уходить. К тому же вскоре я положил глаз на свою будущую жену: Нина училась на одном курсе со мной. - Фамилия Геращенко помогала вам делать карьеру? - Вначале скорее мешала. Когда я окончил институт, отец уже не работал в Госбанке. Недоброжелателей у него хватало, и в 1958-м случилась неприятная история: его несправедливо обвинили в "злоупотреблении служебным положением". Потом, правда, комитет партийного контроля снял все обвинения и восстановил отца в партии. Однако банковская карьера у него на этом закончилась, он перешел на преподавательскую работу. Ну а моя деятельность в Госбанке началась 17 августа 1960 года. Всех москвичей из нашей группы, 15 человек, распределили в УИНО, управление иностранных операций: тогда очень активно росла внешняя торговля, и на этом направлении был острый дефицит кадров. Моя первая должность - бухгалтер отдела расчетов по экспорту. По сути операционист. Довольно скоро моих одногруппников начали двигать по служебной лестнице. А я по-прежнему сидел на аккредитивах - год, второй, третий... Хотелось уже, конечно, чего-то более интересного. И когда предложили перейти в отдел загранучреждений (на тот момент наше подразделение влили во Внеш-торгбанк), охотно согласился. Все-таки не такая рутина, как у меня. Однако не тут-то было. Начальник отдела, узнав, что я сын "того самого" Геращенко, наотрез отказался ходатайствовать о переводе. Неизвестно, мол, как на такую фамилию отреагирует руководство. Первый раз "зарубили", потом второй... Наконец, когда весной 1963-го встал вопрос о моей поездке в Лондон на стажировку в Московском народном банке, обо мне все-таки доложили главе Госбанка. Но Александр Константинович Коровушкин, как мне рассказывали, лишь удивленно спросил: "А при чем тут отец? Пусть едет!" - Какие впечатления у вас остались от первого свидания с заграницей? Испытали культурный шок? - Первая загранкомандировка - это и в самом деле как первая любовь... Конечно, фантастикой было то, что можно приобрести все, что душа пожелает. Я тоже не мог не отдать дань шопингу. Купил себе, помню, свитер без рукавов, модный кардиган, еще что-то из одежды... Правда, почти не носил эти вещи: ходить-то все время приходилось в костюме с галстуком. Была и масса других впечатлений. Среди них, например, знакомство со стриптизом. "Культпоход" организовали мои более опытные коллеги, решившие просветить меня насчет местных злачных мест. Отказаться было невозможно: рисковал не вписаться в коллектив. Ничего особо интересного я в общем-то не увидел, но страху при этом натерпелся много. Я ведь был кандидатом в члены партии! Узнали бы в Москве - прощай и партия, и практика, и карьера. Слава богу, обошлось. Лондон мне очень понравился. Но не могу сказать, что был какой-то шок. Я ведь и до поездки знал, что на "загнивающем Западе" живут не так уж плохо. Как знал и то, что есть страны, которые намного беднее нас. Не поверите, но самое сильное впечатление на меня тогда произвел лондонский туман. Я уже не застал того знаменитого смога, когда водяная пыль смешивается с дымом и город окутывает такая мгла, что перед машиной, едущей по улице, должен идти человек и нащупывать дорогу. Городское отопление тогда как раз перевели с бурого угля на газ и мазут. Но некоторые интересные атмосферные явления все же остались. До сих пор перед глазами стоит желтый свет уличных фонарей, пробивающийся сквозь плотную завесу тумана. Стажировка в Моснарбанке продолжалась шесть месяцев. А через два года, в 1965-м, я вернулся в него уже в качестве директора. С этого момента и вплоть до 1981 года (с небольшим перерывом в 1972-1974 годах) моя жизнь была связана с совзагранбанками: Лондон, Бейрут, Франкфурт-на-Майне, Сингапур... - Неужели у советских банкиров не возникало соблазна проявить свои таланты в Сити или на Уоллстрит? Были невозвращенцы? - Не помню таких случаев. На Запад, как правило, бежали кагэбэшники, иногда мидовцы, артисты. Мы же, прямо скажу, звезд с неба не хватали: операции совзагранбанков были достаточно простыми, в основном расчеты и выдача кредитов. Большого интереса для "капиталистов" мы, пожалуй, не представляли. Да и деньги не играли тогда такой большой роли, как сегодня. Хотя лишних у нас, откровенно говоря, не было. Формально наша зарплата была на уровне местных банковских служащих. Может быть, не как в Barclays или Middle East, но вполне пристойная. Однако довольствовались мы куда меньшими суммами. Я, например, будучи директором Моснарбанка, мог оставить себе только 105 фунтов в месяц. "Излишки" в обязательном порядке сдавались в кассу торгпредства. Но у нас была другая мотивация: статус - далеко не каждый мог оказаться на нашем месте - и, разумеется, карьерный рост. Мы знали, что если нормально себя проявим, то государство в долгу не останется. - Тем не менее нетрудно догадаться, что вы работали под плотной опекой КГБ. - Нам, конечно, было прекрасно известно, who is who в местной советской колонии - кто из КГБ, кто из ГРУ. И кто из "бойцов невидимого фронта" главный. Вычислялось это довольно просто. Если, допустим, у второго секретаря посольства машина лучше, чем у старшего советника, и вдобавок все с ним почтительно здороваются, это явно указывает на то, что у скромного дипработника есть и другой, не афишируемый статус. Однако в наши дела эти ребята старались не вмешиваться. Нас держали чистыми - чтобы ни у кого, упаси бог, не возникло подозрения, что банк занимается какими-то грязными операциями. В Москве да, случалось контактировать с органами. Как правило, они просили помочь прощупать какого-нибудь западного бизнесмена, приезжающего в Союз. Мол, есть подозрение, что это не просто бизнесмен: присмотритесь к нему, выясните, какого рода вопросы его интересуют. Но чтобы за границей... Хотя нет, был один случай в Лондоне в начале шестидесятых. Один из директоров Моснарбанка Трусевич служил одновременно по другому ведомству, в котором, насколько знаю, носил майорские погоны. И, похоже, секретом это не было не только для нас. Однажды Трусевич попал в автомобильную аварию. Происшествие было пустяковое, но его вдруг вызвали в полицейский участок. Когда формальности были улажены, полицейский, прощаясь, неожиданно назвал банковского служащего коллегой. Кагэбэшные кураторы Трусевича всполошились и, не дожидаясь скандала, срочно отправили вычисленного сотрудника в Москву. А в середине 80-х персоной нон грата стал экономист Моснарбанка Ипатов. Правда, он никакого отношения к конторе, мы точно знали, не имел. Просто к нему часто захаживал Олег Гордиевский, резидент КГБ в Англии, и просил "по-дружески" проконсультировать по тем или иным финансовым вопросам. Судя по всему, сбежав на Запад, эта сволочь, пардон, занесла нашего коллегу в один список со сданными разведчиками. - Одна из самых драматичных страниц в истории совзагранбанков - кризис 1976 года, когда прогорело Сингапурское отделение Мос-нарбанка. Не последнюю роль в его спасении пришлось тогда сыграть вам. Трудная была работа? - Да, ничего подобного в советской банковской системе до сих пор не случалось. Скандал был очень большой. Хотя слухи о миллиардах, которые мы тогда якобы потеряли, сильно преувеличены. Общая сумма проблемной задолженности составляла на пике 350 миллионов долларов. И в течение последующих пяти лет нам удалось вернуть более 200 миллионов. Но тогда, осенью 1976?го, ситуация действительно была достаточно драматичной. Крах Сингапурского отделения мог привести к закрытию главной, лондонской конторы Моснарбанка, а это в свою очередь вызвало бы кризис доверия ко всем совзагранбанкам. Да и к стране в целом. Я в то время полтора года как возглавлял наш Ost-West Handelsbank в ФРГ. Но в середине сентября меня вызвали в Госбанк: "Отправляйся в Сингапур!" Ехать, честно говоря, очень не хотелось. Только начал осваиваться в Германии, подучил язык... Кроме того, азиатской экзотики мне сполна хватило в Ливане. А ведь ближневосточный климат - это еще цветочки. Там есть все-таки какая-никакая зима, а от летней жары можно сбежать в горы. В то время как от жаркой и влажной сингапурской бани нет спасения круглый год. Но никуда не денешься: говорят, в ЦК сочли мою кандидатуру наиболее подходящей. Мой предшественник на посту управляющего отделением, Вячеслав Рыжков, на тот момент был уже под следствием. Вердикт Верховного суда СССР по "сингапурскому делу" был вынесен в сентябре 1977 года и поразил меня своей жестокостью. Рыжкова приговорили к высшей мере, расстрелу. Решение было совершенно неадекватным. Единственное, что можно было вменить бывшему управляющему, - халатность. Он слишком доверился своему сингапурскому заместителю, Тео По Конгу. Не глядя подписывал подсовываемые им решения, ничем не обеспеченные кредиты раздавались направо и налево. Как потом выяснилось, нечистоплотный китаец пользовался этой ситуацией в целях личной выгоды. Но сам Рыжков взяток не брал. За недостатком других улик ему инкриминировали то, что он привез в Москву чучело тигра стоимостью две тысячи долларов, подаренное тем же Тео. Причем поскольку тигра негде было держать - квартира у Рыжкова была не очень большая, - он отдал чучело коллеге. Забегая вперед, расскажу про свой сувенирный опыт. Когда я покидал Сингапур, руководители одной местной фирмы - мы пошли им навстречу, пролонгировав кредит, - подарили на память китайское блюдо. Невероятно древнее и ценное, по уверению дарителей. Памятуя о проблемах предшественника, я решил сдать подарок в московский Музей искусства народов Востока. Но меня ждало разочарование: оказалось - новодел! Пришлось украсить китайской подделкой отдел внешних отношений Госбанка. К счастью, Рыжкова удалось спасти. Сыграло роль то обстоятельство, что без него трудно было обойтись в начатой нами процедуре возвращения долгов. Он был необходим как свидетель. Дело в том, что существующая в Сингапуре англосаксонская модель права позволяет ссылаться в суде на устные обязательства. Допустим, мы выставляем требование к клиенту, просрочившему кредит. А он: "Управляющий мне обещал пролонгировать договор". Такое действительно довольно часто практикуется в банковском деле. Однако заемщик может запросто соврать. И если человека, который может это опровергнуть, нет в живых, то, считай, дело проиграно. Я встретился с главой Госбанка Владимиром Алхимовым и объяснил ситуацию. Тот все понял и написал письмо в Президиум Верховного Совета СССР. Нужно было спешить: Рыжков уже находился в камере смертников. Но Брежнев, как назло, заболел, а Кузнецов, его заместитель по Президиуму, не рискнул взять на себя ответственность. Вопрос решился только через месяц. Слава богу, приговор не успели привести в исполнение. Выйдя из больницы, Леонид Ильич сказал: "Ну раз Володя просит, давайте заменим приговор". К главе Госбанка он относился с большим уважением. Впрочем, говорят, генсек вообще был великодушным человеком и никогда не утверждал смертные приговоры, если получал прошение о помиловании. Вместо высшей меры Рыжкову дали 15 лет, из которых он отсидел 12. Но нужно было еще получить добро на то, чтобы использовать его в качестве свидетеля. Насколько я знаю, по этому вопросу было даже голосование в Политбюро. В конце концов нам разрешили опросить Рыжкова в тюрьме в присутствии нашего сингапурского юриста. Им, между прочим, был Дэнис Ли - родной брат Ли Куан Ю, первого премьер-министра Сингапура, отца "экономического чуда". Сингапурец должен был удостовериться, что свидетель friendly, то есть готов давать показания добровольно, без какого-либо нажима. С бывшим управляющим мы встретились летом 1979 года в красном уголке "Бутырки". Работа по "разбору завалов" заняла три дня. Перед встречей мы очень боялись, что Рыжков замкнулся, озлобился. Но опасения оказались напрасными: Вячеслав Иванович здорово нам тогда помог. Всего мы инициировали по меньшей мере 125 процессов по возвращению долгов и большинство из них выиграли. Правда, немало было и таких побед, которые приносили лишь моральное удовлетворение: у ответчиков не было реальных активов, которые можно было бы взыскать. Некоторых должников приходилось ловить по всему миру. Как, например, малайзийца Эймоса Доу. Этот жулик набрал у нас кредитов на 250 миллионов сингапурских долларов, оформив их на фирмы-пустышки. А когда разгорелся скандал, сбежал в США и начал кричать, что его преследует КГБ, который, мол, действует под прикрытием Мос-нарбанка. В конце концов нашим товарищам по несчастью - английским и гонконгским банкирам, также пострадавшим от проходимца, - удалось добиться его экстрадиции в Гонконг. На суде над Доу я присутствовал в качестве свидетеля. Пришлось, кстати, столкнуться с неожиданной проблемой: на чем приносить клятву? На Библии коммунисту давать обеты вроде бы не полагается. В шутку предложил: "А давайте поклянусь на Уставе КПСС". Но в итоге обошлось без этих крайностей, хватило обещания "говорить правду и только правду". Доу, однако, и тут сумел выйти сухим из воды: бестолковый судья-новозеландец решил, что доказательств вины недостаточно. Доу, не будь дурак, тут же сел на самолет и рванул в Таиланд, у которого тогда не было соглашения о выдаче с Великобританией. Впрочем, как веревочка не вилась, аферист все же получил по заслугам. Его арестовали в Лондоне, куда он зачем-то прилетел, потеряв бдительность. Приговорили мошенника всего к четырем годам тюрьмы, но он из нее так и не вышел: умер от рака... В Сингапуре я пробыл пять лет, до 1981 года, хотя обычно командировка длилась года три. Несмотря на то что дела отделения давно пошли на поправку, мне никак не могли найти замену. Слишком уж нехорошая репутация была у этой в прямом смысле слова расстрельной должности. Коллеги отбивались от нее как могли, опасаясь, что неприятности банка на этом не закончились, что есть еще какие-то "скелеты в шкафу". Зато потом, сдав наконец дела, я семь месяцев наслаждался отдыхом: отгуливал отпуска, накопившиеся за время работы во вредном тропическом климате. - Сингапур был последним заграничным "подвигом Геракла"? Да, кстати, когда у вас появилось это прозвище? - Гераклом я стал в начале семидесятых, когда, проработав четыре года в Ливане, вернулся в Москву. Меня назначили сначала замначальника, а потом начальником управления валютно-кассовых операций Внешторгбанка. В то время жизнь в стране замирала, когда показывали очередную серию "Кабачка 13 стульев". Популярность передачи была такой, что имена героев разобрали на прозвища. Подхватил эту "заразу" и мой коллектив: в управлении были свои пан Зюзя, пан Директор, пан Спортсмен, пани Моника... Но к моменту моего назначения все кабачковские паны и пани были уже распределены. Пришлось коллегам придумывать мне какое-то другое имя. Так и появился "пан Геракл", образованный из моей белорусской фамилии. Она у меня, кстати, как я говорю, неправильная. В церковной метрике отца значится "Геращенков". Геращенко его сделали в уездной милиции, когда он выправлял паспорт, собираясь на учебу в Ленинград (семья тогда жила в городе Климовичи Гомельской губернии). Местный паспортист - спьяну, видно, - не дописал одну букву... Что же касается "подвигов", то в 1984 году мне вновь пришлось поехать за границу и заняться "кризис-менеджментом". Проблемы возникли у совзагранбанка "Восход" в Цюрихе, руководство которого довольно рискованно играло на валютном и золотом рынках. И однажды доигралось... Потери были хоть и не такими большими, как в Сингапуре, но достаточно серьезными. Банк в итоге решили закрыть, а на его месте создать отделение Внешторгбанка. Его-то мне и предложили возглавить: мол, после Сингапура тебе не привыкать. Но тут я проявил характер: хватит! Сошлись на том, что поставлю отделение на ноги, помогу подобрать кадры. И через полгода - домой! Работа в совзагранбанках мне тогда была уже неинтересна. Семью не получалась брать с собой, а одному чего там куковать? Кроме того, хотелось попробовать себя в каком-то новом деле... В 1985 году я стал первым зампредом правления Внешторгбанка, а еще через четыре года возглавил Госбанк СССР. Новое назначение было для меня, откровенно говоря, неожиданным. Виктор Владимирович Геращенко Родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. Выпускник Московского финансового института (1960). В 1960-1989 годах работал в системе Внешторгбанка СССР. Возглавлял совзагранбанки и их отделения в Лондоне, Бейруте, Франкфурте-на-Майне, Сингапуре. В 1985-1989 годах - первый зампред правления Внешторгбанка (с 1988-го - Внеш-эконом-банк). С августа 1989-го по декабрь 1991 года - председатель правления Госбанка СССР. С июля 1992-го по октябрь 1994 года - и. о. председателя, председатель ЦБ РФ. В 1996-1998 годах - председатель правления Международного Московского банка (с конца 2007?го - Юни-Кредит Банк). 11 сентября 1998 года утвержден Госдумой председателем ЦБ РФ. Март 2002-го - освобожден от должности в связи с прошением об отставке. С декабря 2003-го по июль 2004 года - депутат Госдумы. В 2004-2007 годах - председатель совета директоров НК "ЮКОС". Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Владеет английским и французским языками. Женат, двое детей, четверо внуков, один правнук. |
|
|
|
 19.3.2010, 3:32 19.3.2010, 3:32
Сообщение
#72
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Наемники в Церкви
Татьяна Грачева, Русская линия Русская цивилизация / 13.03.2010 Глава из новой книги «Когда власть не от Бога» … От редакции: Мы уже сообщали о выходе в свет новой книги известного российского политолога Татьяны Васильевны Грачевой «Когда власть не от Бога», опубликовав предисловие к изданию. Сегодня мы предлагаем читателю главу из книги, которая посвящена действиям Ватикана по развалу Советского Союза. Эта глава может быть особенно интересна, на наш взгляд, православному читателю в контексте дискуссии об отношениях Русской цивилизации и Ватикана, толчком к которой послужила одноименная конференция, недавно проходившая в стенах исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Крестовый поход Ватикана против CCCР-России В конце февраля 2009 года российские СМИ обошло сообщение следующего содержания: «Россияне хотят вернуть Советский Союз. Большинство россиян хотели бы, чтобы их государство напоминало советское. Таковы результаты опроса, проведенного службой «Gallup» в России». Итак, в 2009 году, спустя столько лет после крушения СССР, «большинство россиян» все еще тоскует по утраченной советской государственности. Наверное, многие из этого большинства задавали себе вопрос: «Какие силы способствовали развалу страны, память о которой вызывает у них такую ностальгию?» Обычно к разрушителям относят силы политические, экономические и информационные, то есть то, что очевидно и лежит на поверхности. Но была еще одна сила, которая оказала особо разрушительное воздействие, находясь при этом в тени, за кулисами. Этой силой был Ватикан. Сейчас так много говорят о желательности союза между Ватиканом и Московской Патриархией, что мы церкви-сестры, что у нас много общего. В связи с этим неплохо было бы выяснить, с кем нам предлагается объединяться. Разбираться в этом начнем как раз с истории организации краха СССР, где одну из главных ролей сыграл Папа Римский Иоанн Павел II. Скажем больше, без вмешательства папы это было бы сделать невозможно. Как выразил это Тимоти Гартон Эш: «Без папы не было бы Солидарности (движения сопротивления правительству тогдашней Польши. - Авт.). Без Солидарности не было бы Горбачева. Без Горбачева не было бы падения коммунизма». «Падение коммунизма» в данном случае выразилось не в крушении идеологии, которая сейчас «живет и побеждает» на Западе, а в крушении государственности Советского Союза и его союзников - стран Восточной Европы, которые давно, по сути, отошли от коммунистической идеологии. От нее остались лишь некоторые символы и названия. Это был внешний фасад, который скрывал совершенно другой строй. Его называли советский, социалистический. Но дело не в названии. По сути своей это был строй, ориентированный на строительство национальной государственности, объективно препятствующей созданию всего глобального, включая Глобальный каганат. Противостояние национального и глобального лежит в основе современной политической и экономической конфронтации. Во время существования Советского Союза именно он был ядром всего национального, вокруг которого объединились страны Восточной Европы и страны Третьего мира, также избравшие путь национальной государственности. СССР сформировал эту коалицию национальных сил, и на нем эта коалиция держалась. Благодаря этому, национальное могло защищаться и отражать атаки глобального. Такая ситуация, безусловно, не устраивала глобальные силы, силы хазарократии. В период «холодной войны» неоднократно предпринимались попытки расшатать блок национальных сил. В 70-е годы было принято стратегическое решение - сначала, подточив союз изнутри, путем разложения какого-то одного из членов, спровоцировать на мятеж, на революцию всех. А затем нанести смертельный удар по ядру альянса - Советскому Союзу. Таким образом, встал вопрос, в каком государстве заложить ту мину, которая впоследствии взорвет всю систему национальной государственности так, чтобы от нее остались мелкие осколки. Вопрос осуществления этого плана был непростым. Чтобы превратить какое-то государство во взрывное устройство, способное взорвать всю систему национальных сил и создать предпосылки для уничтожения ее ядра, нужно было продумать ряд условий, которым должно соответствовать это государство. Во-первых, это государство должно играть значительную роль в коалиции национальных сил, чтобы ситуация в нем действительно повлияла на всех. Во-вторых, поскольку главный удар был направлен против ключевой российской государственности как фундамента системы национального, нужно, чтобы это государство органически несло в своих недрах антироссийский заряд. То есть исторически жестко противостояло России, политически и духовно. В-третьих, нужно, чтобы это государство органически было связано с Западом, составляющим ядро коалиции глобальных сил. Органическая связь в данном случае означает исторический союз с Западом в политическом и духовном (религиозном) плане. Всем этим трем требованиям отвечала только одна страна - Польша. Когда определились с государством-миной, нужно было выработать стратегию подрывной работы, направленной на уничтожение системы национальной государственности во главе с СССР. Эта стратегия заключалась в том, чтобы сформировать внутри Польши такую силу, которая была бы способна действовать по двум направлениям против собственной национальной государственности и против СССР как авангарда системы национальной государственности в мире. Иоанн Павел II принял активное участие в формировании такой силы и выступил как ее духовный лидер. Авторитет Папы Римского позволил обеспечить масштабность и открытость подрывной антигосударственной деятельности в Польше. Иоанн Павел II, поляк по национальности, придал революционному движению особый пафос и националистический характер. Польский католицизм исторически был центром борьбы против Российской империи. И под духовным руководством Иоанна Павла II процесс распада системы национальной государственности СССР и его союзников пошел быстрыми темпами. В июне 1979 года папа предпринял свою историческую поездку в Польшу и пробыл там девять дней, которые затем перевернули мир. В своих проповедях, лекциях и обращениях он совершил то, что впоследствии назвали «революцией в умах поляков». Бронислав Геремек, бывший министр иностранных дел Польши и член движения Солидарность, вспоминает: «В 1979 году папа хотел донести до нас, что режим не может существовать без народной поддержки, и он говорил: «Не поддерживайте его» (http://www.inosmi.ru/print/218647.html). Не случайно год спустя в Гданьске было образовано движение Солидарность, которое организовало забастовку на местном судостроительном заводе, и чуть ли ни первое, что сделали члены движения, - они повесили портрет Иоанна Павла II на воротах завода. После этого начинается стремительный подъем движения Солидарность, которому папа оказывает всестороннюю духовную и финансовую поддержку. Финансовая поддержка Ватикана позволила добиться взрывного роста численности Солидарности - за 18 месяцев 10 миллионов членов. Волна забастовок потрясла страну. Польское правительство было в страхе, и Кремль выразил глубокую озабоченность. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко тогда сказал: «Мы не должны потерять Польшу. Советский Союз потерял 600 000 солдат и офицеров в борьбе за освобождение Польши от нацистов». В августе 1980 года Лех Валенса предъявляет требования правительству Польши. Папа, увидев по телевизору, как Лех Валенса и рабочие молятся, заявляет: «Валенса послан Богом, самим провидением». Выступая перед двумя палатами польского сейма на торжественной церемонии в честь 25-летия Солидарности, ее бывший лидер и первый демократический президент Польши Лех Валенса сказал, что это движение «вдохновил» Папа Римский Иоанн Павел II. «Тогда польский народ и многие другие проснулись ото сна». По словам Валенсы, поляков «пробудил» первый визит Иоанна Павла II в Польшу в качестве понтифика в 1979 году. Именно после этого зародилась Солидарность и начались выступления против коммунистического режима. «Революция в умах поляков» 1979 года подготовила революцию 1989 года, после которой процесс развала социалистической государственности в СССР и странах Восточной Европы пошел особенно быстрыми темпами. «New-York Times» так написала об этом: «Историки и государственные деятели сходятся во мнении, что Иоанн Павел II сыграл огромную роль в создании рабочего движения Солидарность в 1980 году. После череды во многом драматических событий, во главе которых стояла эта организация, летом 1989 года в Польше рухнул коммунистический режим. А это в свою очередь вызвало политические перевороты в других социалистических странах от Восточной Германии до Болгарии». После 1979 года папа совершил еще две поездки в Польшу в 1983 и в 1987 годах. Ему удалось зажечь пламя революции, которое охватило миллионы поляков. Но все началось тогда с его поездки в 1979 году. Как сказал бывший глава Польского государства генерал Ярузельский: «Она послужила детонатором». Известно, что вскоре после избрания 16 октября 1978 года Кароля Войтылы главой Римско-Католической Церкви, КГБ проинформировало Политбюро, что решение Ватикана было принято под давлением Збигнева Бжезинского, занимавшего тогда должность советника по вопросам безопасности при президенте США Джимми Картере. Рональд Рейган, официально ставший президентом США 20 января 1981 года, сохранил Бжезинского в качестве советника по вопросам безопасности в своей администрации. Он предпринял энергичные шаги по установлению тесных контактов с Иоанном Павлом II, рассматривая его и Польшу как ключ к уничтожению «империи зла». Именно это название было приклеено тогда к СССР. Как следует из биографии папы, написанной Карлом Бернстайном и репортером Ватикана Марко Полити, отношения между американским президентом и папой начались с обмена письмами вскоре после инаугурации Рейгана. За этим последовали секретные визиты в Ватикан посла Вернона Вальтерса и директора ЦРУ Вильяма Кейси. Они заверили папу в том, что США обеспечат финансовую, материальную и политическую поддержку движению Солидарность. Кроме того, они предоставили папе массу ценнейшей разведывательной информации о событиях в Польше и других странах, которые папа должен был посетить во время своих длительных поездок. В феврале 1981 года, по мере нарастания беспорядков в Польше, папе были переданы разведывательные данные, содержащие снимки концентрации советских вооруженных сил на польской границе. Вскоре после этого средства массовой информации распространили сообщения о том, что папа в письме к Леониду Брежневу пригрозил вылететь в Варшаву и стать перед советскими танками в случае их вторжения в Польшу (Michael Satchell «The end of communism», U.S. News & World Report, 4/2/05). В декабре 1981 года польский лидер Войцех Ярузельский объявил в стране военное положение. Тысячи членов Солидарности были арестованы, сотни были обвинены в измене и подрывной деятельности. Движение было запрещено, и Валенса был арестован. Полгода спустя в июне 1982 года Рейган посетил папу. В ходе этого сблизившего их визита Иоанн Павел II благословил Рейгана начать «крестовый поход» против Советского Союза с целью его уничтожения. Советник Рейгана Ричард Ален писал, что оба лидера считали крушение Советской империи неизбежным, ставя при этом во главу угла больше духовные, чем стратегические основания. Оба лидера, как утверждает советник, разделяли общее мнение о том, что необходим некий «опирающийся на сверхъестественные силы религиозный план», и президент выразил абсолютную уверенность, что «папа поможет изменить мир». Ален пишет: «Это был один из самых великих секретных альянсов всех времен. Не альянс в обычном, официальном смысле этого слова, но никак не оформленное юридически тайное соглашение». Массимо Франко, писатель, журналист, сотрудник лондонского Института стратегических исследований, подчеркивает, что это соглашение было направлено против советской государственности: «Папа Иоанн Павел II и президент Рейган образовали тайный альянс против Москвы, результаты деятельности которого позволили ускорить развал СССР» (Массимо Франко. Папа и Президент. Рим и Рейган против русских, 2009). Как следует из источников в правительстве США, три недели спустя после этой встречи Рейган подписал секретную директиву, направленную на то, чтобы обеспечить «крестовый поход» через Польшу против СССР всем необходимым. В тайном сотрудничестве с Ватиканом и через него от США в помощь Солидарности контрабандным путем пошли деньги, факсы, компьютеры, копировальные и печатные машины, полиграфическое оборудование, аппаратура связи и т. д. «Папа начал агрессивное религиозное и политическое наступление», и стал «страстным катализатором революции»... (Michael Satchell. The end of communism, U.S. News & World Report, 4/2/05) В 1985 году стало ясно, что польское руководство уже более не в состоянии контролировать и сдерживать революционное движение в стране. Начиная со времени встречи Рейгана и папы в 1982-м и до 1985 года, Вашингтон через ЦРУ закачал в Солидарность 50 миллионов долларов. Посол Рейгана Вернон Вальтерс в период с 1981 по 1988 год посещал Ватикан каждые полгода, чтобы обменяться особо секретной экономической, военной и политической разведывательной информацией. В 1986 году Ярузельский объявил общую амнистию в стране, включая освобождение более 200 политических заключенных, и снял обвинения против Валенсы. Иоанн Павел II вернулся в Польшу в 1987 году и отслужил торжественную мессу на открытом воздухе в Гданьске перед восторженной толпой в 750 000 человек. Повторяя вновь и вновь, что польские рабочие имеют право на самоуправление (ну просто верный марксист), папа заявил: «Нет более эффективной борьбы, чем Солидарность». В середине 1989 года в Польше состоялись многопартийные выборы, на которых одержали победу кандидаты от Солидарности. После этого начался процесс распада Варшавского договора, а затем и СССР. Венгрия открыла свои границы с Австрией, позволяя гражданам Восточной Германии бежать в Западную Германию. Начались демонстрации с требованиями независимости в Латвии, Эстонии и Литве. Требования предоставления свободы распространились в Чехословакии, Болгарии и Румынии. В Восточной Германии была разрушена Берлинская стена. Ураган перемен, запущенный поездками папы в Польшу, стремительно приближался к главному пункту своего разрушительного исторического предназначения - к СССР. Католическая церковь стала одной из главных сил антисоветской борьбы, а Иоанн Павел II - ее духовным руководителем и вдохновителем. Виталий Павлов, возглавлявший представительство КГБ в Польше с 1973-го по 1984 год, так пишет в своих мемуарах: «Кардинал Войтыла «часто фигурировал в графе оперативных сводок о подрывной антиправительственной деятельности». И далее: «Кардинал К. Войтыла был одним из самых воинственных антикоммунистов, инспиратором различных антиправительственных и антисоветских выступлений с церковного амвона. (Владимир Воронов. «Операция «Папа». Совершенно секретно, 2005). На фоне разрастания этих выступлений и распространения революции, угрожающей существованию СССР, Горбачев берет курс на отказ от помощи просоветским режимам Восточной Европы, предавая их и оставляя их на произвол судьбы, а, точнее, врагов. В декабре 1989 папа устраивает свою первую встречу с Горбачевым и встречается с ним в Ватикане. Они объявляют о том, что Ватикан и Москва устанавливают дипломатические отношения. Отметим, что руководство СССР не имело дипломатических отношений со Святым Престолом и до августа 1962 считало Ватикан одним из центров глобального «антисоветского влияния». Горбачев в своем страстном преклонении перед Западом политически совсем ослеп и утратил не только чувство ответственности за государство и народ, но даже элементарный инстинкт самосохранения. Тогда во время его визита в Ватикан после продолжительного конфиденциального разговора, понтифик приглашает жену Горбачева присоединиться к ним. Горбачев при этом одаривает папу высокой похвалой: «Раиса, я представляю тебя Его Святейшеству Иоанну-Павлу II, который является высочайшим авторитетом на планете» (Michael Satchell. The end of communism, U.S. News & World Report, 04.02.2005). В 1991 году «высочайший авторитет» в знак благодарности за комплимент помогает нанести окончательный смертельный удар по СССР, совершая поездки по Польше и Прибалтийским республикам, откуда его непримиримые антисоветские послания быстро распространяются по территории СССР. В декабре 1991 года возглавляемый папой крестовый поход против СССР достиг своей цели. Советская империя была уничтожена, а ее осколки попали под власть внешнего центра. Кстати, Горбачев признал публично ключевую роль Иоанна-Павла II в смене режимов в странах Восточной Европы, результатом чего стало их порабощение Западом. Горбачев сказал: «Все, что случилось в Восточной Европе в последние годы, не было бы возможным без присутствия во всем этом папы, без великой роли, даже политической, которую он сыграл на мировой арене» (La Stampa, March 3, 1992). Эта «великая роль» папы в реализации стратегических планов хазарократии по борьбе с российской государственностью обеспечила ему фантастическую поддержку мировой закулисы. Поэтому не удивительно, что Иоанн-Павел II находился на папском престоле очень долго - 33 года. А вот его предшественник был главой Ватикана удивительно короткий срок - всего 33 дня... Тайны папского двора. Бжезинский - «крестный отец» папы Иоанна-Павла II В 1978 году кардиналы избрали папой вовсе не Кароля Войтылу, а Альбино Лучани, принявшего имя «Иоанн-Павел I». Он был главой Римско-Католической Церкви на протяжении 33 дней - с 26 августа по 28 сентября 1978 года. Официальная причина смерти: Иоанн-Павел I умер от инфаркта. Дэвид Яллоп в своей книге (In God’s Name, An Investigation into the Murder of Pope John Paul I) исследует обстоятельства смерти понтифика и приходит к выводу, что это было убийство. Причины убийства нужно искать в религиозной, политической и экономической сферах. Папа, в силу своих политических взглядов, не сделал бы то, что сделал Кароль Войтыла для уничтожения СССР и его союзников. Но были еще и финансовые причины. Лучани решил проверить вызвавшую у него подозрения деятельность Ватиканского банка. То есть папа посягнул на «самое святое», на идола колена Данова, на золотого тельца, которому поклоняется хазарократия. Он так же, как и Джон Кеннеди, замахнулся на их деньги. Яллоп пишет о том, что это убийство «совершила «тайная сила», та же самая сила, которая стояла за убийством Джона и Роберта Кеннеди». Этой тайной силе нужно было убрать как можно скорее папу, который пошел наперекор ее воле и поставить того, кто этой воле полностью подчинился, то есть Кароля Войтылу. Вот, как описывает Яллоп события, происшедшие утром после убийства понтифика: «В пятницу утром 29 сентября 1978 года в 4:30 сестра Винченца принесла, как обычно, кофе в кабинет папы. Через несколько минут она постучалась в дверь его спальни... Ответа не последовало. Немного подождав, Винченца ушла. В 4:45 она вернулась. Поднос с кофе стоял нетронутым... Она постучала в дверь спальни сначала тихо, затем с большей силой. Но ответа не было...». Как она рассказывала потом Яллопу: «Это было чудо, что я выжила, у меня плохое сердце. Я нажала на звонок, чтобы созвать секретарей. Затем я пошла искать других сестер и разбудить папских секретарей - Диего Лоренци и Джона Маджи». Первое, что сделал отец Маджи, - позвонил государственному секретарю Ватикана Жану Вийо. В 5:00 Вийо был уже в спальне папы. Удивительное дело, сестра Винченца обнаружила труп в 4:45. После этого она забила тревогу. Сначала была паника, растерянность... Нужно было сообразить, что делать. На это должно было уйти немалое время. Во всяком случае, не 15 минут. Но Вийо прибыл уже через 15 минут после обнаружения трупа. Такое впечатление, что он уже ждал где-то рядом, чтобы прийти первым и быстренько замести следы. На маленькой прикроватной тумбочке было лекарство, которое Лучани принимал от низкого давления. Вийо положил его в карман и затем тщательно стер поверхность тумбочки. Он снял очки и тапочки, которые были на папе. Ни один из этих взятых предметов нигде и никогда не всплывал при рассмотрении обстоятельств смерти. Иоанн-Павел I умер вскоре после встречи с Вийо, которая произошла поздно вечером 28 сентября, во время которой Вийо подал ему бокал шампанского. Сообщалось, что пол в комнате мертвого был испачкан рвотными массами, которые Вийо собственноручно убрал. К 6 утра апартаменты папы были убраны и вымыты до абсолютного блеска, так что не осталось никаких следов. «Секретари упаковали всю одежду папы, его письма, записи, книги и даже маленькие записки-напоминания. К 6 утра все 19 комнат папских апартаментов были полностью очищены от всего, что даже отдаленно ассоциировалось с папством Лучани». Яллоп отмечает, что затем Вийо потряс ближайшее окружение папы тем, что составил полностью вымышленное заключение об обстоятельствах, которые были связаны с обнаружением тела Лучани. Сестра Винченца дала два противоречащих друг другу показания. Одно до встречи с Вийо, когда она сказала, что тело было в ванной, а другое после разговора с Вийо, когда она сказала, что тело было в спальне. Вийо сразу же выдвинул в качестве причины смерти папы острый инфаркт миокарда и заставил людей, бывших в то время в апартаментах папы, дать клятву сохранить в тайне все, что они видели. Вийо также дал указание не разглашать информацию о смерти до его особых распоряжений. Затем, сидя в кабинете папы, он сделал несколько таинственных телефонных звонков, суть которых он тщательно скрыл от папской свиты. Стоит отметить еще один удивительный факт. В ночь на 28 сентября 1978 года, когда Лучани умер, ватиканская гвардия получила странный приказ: «Сегодня никакой охраны». Эту информацию приводит в своей книге Эрик Фраттини. Он поддерживает версию об убийстве папы, выдвинутую Яллопом, на которого после его публикации обрушился поток злобных обвинений в несостоятельности его версии об убийстве. Фраттини называет еще одного человека, которого так же, как и Лучани, заставили замолчать; «Отец Джованни да Никола, который информировал понтифика о финансовых нарушениях Ватиканского банка, знал, что его дни сочтены». Точнее, этих дней оставалось четыре. Джованни да Никола «был найден повешенным в отдаленном римском парке, посещаемом трансвеститами и проститутками». Но об этой смерти в газетах той эпохи нет и следа. Даже тогдашний глава римского Отдела общих расследований и особых операций Итальянской полиции «Digos» не помнит об этом. Фраттини осторожно и гибко сообщает об источнике этой информации: «Мне об этом рассказал один человек, который работал в Риме на иранскую секретную службу». Вийо организовал все так, что тело было забальзамировано в тот же вечер, что было не только необычным, но и противозаконным решением. Почему Вийо так спешил? Сообщалось также, что во время бальзамирования он настоял на том, чтобы из тела не было произведено никаких заборов крови, и чтобы не был извлечен ни один орган. Ведь даже небольшого количества крови было бы достаточно, чтобы установить факт отравления. Вслед за этим также поспешно была проведена (неслыханное дело!) кремация тела, а не его захоронение, как того требует церковь. Яллоп пишет: «Если Лучани умер естественной смертью, то действия Вийо... совершенно необъяснимы. Его поведение становится понятным только в связи с одним специфическим выводом: или кардинал Вийо был частью заговора с целью убийства папы, либо он ясно увидел в спальне четкие доказательства, указывающие на то, что папа был убит... И Вийо решительно был настроен на то, чтобы уничтожить эти доказательства». В 6:00 приехал вызванный Вийо доктор Ренато Буццонетти (не профессор Марио Фонтана - глава медицинской службы Ватикана) и констатировал смерть от острого инфаркта миокарда. Однако, странное дело, Буццонетти не составил никакого заключения о смерти и не подписал никакого документа. Яллоп пишет: «Постоянный отказ предать гласности свидетельство о смерти (если таковое вообще существует), означает, что ни один врач не готов публично взять на себя юридическую ответственность и подтвердить, что причиной смерти Альбино Лучани явился именно сердечный приступ». Более того, все 15 врачей, состоящих в штате медицинской службы Ватикана, на момент смерти папы отказались поставить подпись под официальной версией Ватикана о причине смерти или каким-то образом комментировать то, что на самом деле случилось с папой. Очевидно, что они попали в тиски обстоятельств: признать свои сомнения относительно официальной версии Ватикана - значит вызвать гнев Ватикана и тайной силы, которая им манипулирует, но пойти на ложь и подписать ложь, придуманную Ватиканом, - значит поставить себя в трудное положение, если правда когда-нибудь всплывет. Это будет означать суд. Поэтому врачи предпочли молчание. Все 15 человек. Молчание всех врачей относительно причин смерти Лучани, а также отсутствие свидетельства о смерти говорят сами за себя, и Ватикан только подлил масло в огонь, отказав итальянским должностным лицам в проведении патологоанатомической экспертизы, что предусмотрено итальянским законодательством. В подобных случаях оно распространяется и на Ватикан. Доктор Карло Фрицерио, который был лечащим врачом Лучани вплоть до его смерти, сказал: «Он (Лучани) не имел абсолютно никакой сердечной патологии (кроме пониженного давления). Кроме того, его низкое давление, по крайней мере, теоретически гарантирует ему защиту от острых сердечнососудистых приступов. Единственный случай, когда ему потребовалось лечение, был грипп». Доктор Джузеппе да Роз, еще один личный врач Лучани, был возмущен ложной версией Ватикана. Он со всей определенностью утверждал: «Альбино Лучани был абсолютно здоров». Ватикан отказался дать согласие на вскрытие. Почему? Яллоп пишет, что о причине этого отказа сообщил ему сам кардинал Вийо. Он сказал Яллопу буквально следующее: «...все, что произошло, было трагическим случаем. Папа нечаянно выпил большую дозу своего лекарства... И, если вскрытие было бы проведено, обнаружилась бы эта смертельная передозировка. Никто бы не поверил, что Его Святейшество принял эту дозу случайно. Некоторые бы предположили самоубийство, некоторые убийство. Поэтому было решено не проводить экспертизу». Это заявление Вийо означало, что на этот раз он признал, что причиной смерти был вовсе не сердечный приступ. Он, по сути, признал, что Лучани умер от отравления, сказав при этом, что это была случайная передозировка. Но это была еще одна ложь Ватикана. Яллоп продолжает: «Дважды я беседовал с профессором Джованни Рама, который отвечал за лекарственную помощь папе... для снижения давления. Лучани был пациентом доктора Рама с 1973 года. Он полностью отверг версию относительно возможной передозировки, которую якобы допустил его пациент: «Случайная передозировка невозможна. Он был очень дисциплинированным пациентом. Особенно внимателен он был в отношении лекарств. Ему нужно было очень мало. На самом деле он принимал минимальные дозы. Нормальная доза его лекарства составляет 60 капель в день, а для него достаточно было 20 капель. Он был всегда очень внимательным в приеме лекарств». Очевидно, что папа был отравлен. Яллоп считает, что к отравлению могли быть причастны следующие лица. Архиепископ Пол Марцинкус, глава Ватиканского банка - Института религиозных дел (Istituto Opere Religiose, IOR), испугавшийся намерения Лучани проверить странные сделки банка, которые свидетельствовали о том, что банк связан с незаконными валютными операциями, офшорными банковскими сделками и мафией. По поводу этой персоны отметим попутно со ссылкой на ВВС, что он родился в 1922 году в окрестностях Чикаго и стал архиепископом в 1969 году. Известно, что в детстве его кумиром был гангстер Аль Капоне. Подражая своему кумиру, он участвовал в разбойничьих налетах, кражах и местных разборках. Один из священников пожалел его и вызволил из очередной тюрьмы. Затем помог получить образование. Но связи с боссами преступного мира он не терял. «Ловкость Марцинкуса помогла найти ему друзей и в ЦРУ. Некоторое время он возглавлял секретные службы Ватикана. Он стал Аль Капоне в сутане. Марцинкус проворачивал миллиардные сделки, финансировал политические партии и движения, контролировал итало-американскую организованную преступность». «Марцинкус был одной из самых могущественных фигур в Ватикане при двух папах - Павле VI и Иоанне-Павле II». С 1971 года по 1989 год возглавлял Ватиканский банк. Известно, что Иоанн Павел I, решил положить конец могуществу Марцинкуса, что привело ватиканского банкира в ярость. Их отношения были напряженными еще до избрания Лучано папой. В 1982 году Марцинкус оказался причастным к скандалу, связанному с банкротством из-за преступной деятельности банка Ambrosiano, с которым он имел тесные связи. Ватиканский банк был главным владельцем акций Banco Ambrosiano. Марцинкус избежал ответственности только благодаря иммунитету, который гарантирован служащим Ватикана. Архиепископ был найден мертвым 20 февраля 2006 года в своем доме в Сан-Сити в Аризоне. Причина смерти неизвестна (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/ europe/4737052.stm). В ходе длительного следствия по делу о крахе «Банко Амброзиано» в его орбите оказались некоторые видные члены секретной масонской ложи «П-2» («Пропаганда-2») и сам ее магистр Личо Джелли, а также ряд известных международных финансовых аферистов (РИА Новости, 22 февраля, 2006). Личо Джелли, глава тайной жестко антикоммунистической масонской ложи П-2, которая внедрила своих членов в Ватикан. Эта неофашистская организация в Италии насчитывала 2400 членов и была подчинена ложе в Англии. Джелли был агентом ЦРУ и имел тесные связи с итальянской мафией. В ложу Джелли входили высокопоставленные члены Независимого военного ордена Мальты (SMOM), включая командующих вооруженными силами, руководителей секретных служб, главу итальянской финансовой полиции, 30 генералов, 8 адмиралов, издателей газет, руководство телеканалов и крупного бизнеса, а также ведущих банкиров, включая Кальви. Роберто Кальви, глава связанного с Ватиканом Banco Ambrosiano. Впоследствии Кальви был найден повешенным 19 июня 1982 года под мостом «Черные монахи» (мост Блэкфрайарз) в Лондоне вскоре после банкротства банка из-за долгов, которые составляли 1,3 млрд. долларов. Следы этих денег тянулись к займам, выданным 10 фиктивным компаниям в Латинской Америке, и к деятельности мафии. По делу об убийстве Кальви впоследствии в Италии было привлечено к суду 5 человек (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4737052.stm) Микеле Синдона, координатор банковских отношений между Джелли, Кальви, мафией и Ватиканом. Кардинал Джон Коуди, архиепископ Чикагский, крупнейшей в США епархии. Коуди управлял финансовыми сделками Ватикана в США. Был включен в известный организованный преступный синдикат Chicago Mob, базирующийся в Чикаго и основанный в 1910-х годах как часть американской мафии. Особые связи поддерживал с кланом Гамбино, причастным к убийству Джона Кеннеди. Кардинал Жан Вийо, известный уже нам государственный секретарь Ватикана, который был также вовлечен в криминальную деятельность Ватиканского банка и был масоном. Эти шесть человек завязаны на финансовые, криминальные и политические интересы. Но каждый из них в отдельности не располагал достаточным потенциалом, чтобы совершить это убийство, требующее масштабной подготовки и вовлеченности многих лиц. Но эти люди были связаны между собой в сеть. Какая сила связала их вместе? Какая сила стоит за этой сетью, объединяет ее, владеет ею, контролирует ее и управляет ею? Именно она, эта теневая сила, держа все ниточки в своих руках, смогла организовать заговор с целью убийства Лучани. В качестве исполнителя могла выступить итальянская мафия, связанная упомянутыми выше людьми. Но только в качестве исполнителя. Хотя итальянская мафия очень сильна, но все же она не независима. Как пишет в своем исследовании о связях Ватикана и ЦРУ С. Ширер, мафия является «служанкой ЦРУ, особенно в Италии. Мафия никогда не осмелилась бы убить папу без одобрения ЦРУ. Если бы они осмелились совершить такое колоссальное дело без одобрения ЦРУ, их бы разбили в клочья, а прах развеяли бы по ветру. ЦРУ, вне всяких сомнений, способно было это сделать» (S.R. Shearer Liberation Theology, The Vatican, And The CIA: Ghosts And Phantoms, May 19, 2005). В течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны ЦРУ удалось занять особые позиции в Италии. США включились в титаническую борьбу с Советским Союзом за контроль над Италией (и не только над Италией, но и над всей Европой). В результате ЦРУ влило миллионы и миллионы долларов в Италию в качестве части мер, направленных на недопущение того, чтобы итальянцы проголосовали за коммунистов и привели к власти коммунистическое (читай просоветское, потому что именно СССР рассматривался как главный враг США. - Прим. авт.) правительство. И эти меры включали также закачивание миллионов долларов в католическую церковь, которая была, пожалуй, самой мощной антикоммунистической организацией во всей Италии в то время. Бывший агент ЦРУ Виктор Марчетти пишет: «В 1950-х и в 1960-х годах каждый год многим предприятиям, контолируемым католической церковью и многим епископам направлялись миллионы долларов...» (S.R. Shearer Liberation Theology, The Vatican, And The CIA: Ghosts And Phantoms, May 19, 2005). Так антисоветизм практически стал доктриной Ватикана. Деньги ЦРУ попали на подготовленную почву многовековой борьбы католицизма против Российской государственности и русского Православия. Параллельно с этим ЦРУ привлекло к своей борьбе также и мафию, особенно кланы Гамбино и Инцерилло, которые также, как и католическая церковь, были жестко антисоветски настроены. ЦРУ в Италии установило тесные связи с масонством, и в частности с масонской ложей П-2 (Пропаганда-2), деятельность которой была сосредоточена на борьбе с СССР и Коммунистической партией Италии. Название ложи было выбрано в память о когда-то существовавшей ложе Пропаганда, возглавляемой Джузеппе Мазини во время революции 1848 года. П-2 тайно очень тесно сотрудничала с ЦРУ. Информированный еженедельник «Панорама» напечатал обширный репортаж, где приводились новые детали заговора по убийству Лучани. Корреспонденты обратили внимание, что почти все лица в списке деятелей римской курии, в том числе Госсекретарь Ватикана Жан Вийо, входили в состав тайных масонских лож, включая «Великий Восток Италии» и П-2. Фанатичный антисоветизм стал общим фундаментом для объединения усилий Ватикана и масонской ложи П-2. При посредничестве ЦРУ многие представители папской курии стали членами этой ложи. Все это произошло, несмотря на то, что папа Климент XII еще в 1738 году предал анафеме всех, кто принадлежал к масонским организациям. Этот запрет был отменен папой Иоанном Павлом II. В результате активных действий американских спецслужб сложилась такая гремучая смесь - ЦРУ, Ватикан, мафия и масонство. Этот альянс и образовал антисоветский фронт, который сетью развернулся в борьбе против Советского Союза, государств-союзников СССР и просоветски ориентированных политических сил внутри стран Запада, представленных прежде всего коммунистическими партиями. Именно так понималась борьба с коммунизмом как стратегия действий и антикоммунизм как доктрина. Вся эта антисоветская сеть покрыла в том числе и Италию. Идеология антисоветизма сцементировала ее намертво. Но при этом, объединенные идеологически, ячейки сети действовали автономно и имели свою специализацию. Так что нередко очень трудно было сказать, кто есть кто и кто что и для кого делает. Это классика сети. Епископы и кардиналы были членами П-2, члены П-2 были связаны с мафией и Ватиканом. А ЦРУ было везде как связующее и координирующее начало. Был создан убойный арсенал антисоветских сил. Туда вошли убежденные антисоветчики, фанатики, яростно сражавшиеся против СССР и его друзей. Во всю шла холодная война, и для участников этого тайного антисоветского заговора, как пишет Ширер, все средства были хороши, включая незаконные прибыли от валютных спекуляций, хищение средств, отмывание денег для мафии. Все эти колоссальные денежные потоки шли на борьбу против «коммунизма» в Италии, Латинской Америке, Польше и всей Восточной Европе. То есть против влияния и позиций СССР в этих странах. И после этого, кто-то еще утверждает, что Советский Союз распался сам собой, без посторонней помощи? Мозгом здесь было ЦРУ. В Италии в 1978 году ничего не происходило без одобрения ЦРУ или «правящей мировой элиты», которой ЦРУ служило. Эта элита сконцентрирована в США, и, как говорит профессор Райт Миллс, она «поодиночке и коллективно принимает ключевые решения, имеющие последствия для столь огромного количества людей, что это является беспрецедентным в мировой истории человечества». Именно эта правящая мировая элита приказала убить Лучани так же, как когда-то приказала убить Джона Кеннеди и Сальвадора Альенде, которые стали угрозой для этой правящей элиты и тогда формирующегося Нового мирового порядка, направленного на достижение мировой гегемонии (S.R. Shearer Liberation Theology, The Vatican, And The CIA: Ghosts And Phantoms, May 19, 2005). Лучани был против Польского проекта, направленного на создание условий по уничтожению СССР. А хазарократии нужен был такой папа, который был бы не просто за, но был одной из центральных фигур, осуществляющих этот проект. Он должен быть соучастником преступной сети Ватикан - мафия - П-2 с ЦРУ во главе. Всем этим требованиям удовлетворял только один человек - Кароль Войтыла. Выбор пал именно на него. И он был избран. Бжезинский, прибывший на похороны Лучани в качестве официального американского представителя, оставался в Риме до момента избрания Войтылы главой Ватикана. Известно также, что еще на посту архиепископа Краковского Войтыла уже вел активную переписку с Бжезинским, занимавшим тогда пост советника по национальной безопасности. На что, на достижение какой цели, направлен был этот союз? Джеймс Николсон, бывший в то время послом Америки в Ватикане, сказал, что «стратегический альянс Вашингтона и Ватикана, был направлен против Советского Союза». Такая колоссальная, зловещая, объединенная сила поднялась на войну против нашего государства с целью его уничтожения, и она его уничтожила, обрекая на уничтожение многие миллионы людей. Но, имея эти коварные планы и осуществляя свои злодейские цели, они для публики везде кричали о своих благих намерениях в отношении Советского Союза, обнимались перед камерами с нашими руководителями, попавшими на удочку их лести и лицемерия. Эти политические деятели позволили вовлечь себя в антигосударственный заговор и, в конце концов, стали наемниками врага, отдав страну и народ на растерзание волка. Ситуация в отношении нашей страны, теперь уже осколка империи под названием Российская Федерация, нисколько не изменилась и сейчас, как не менялась она на протяжении веков попыток хазар уничтожить Русь. Разрушив Советский Союз, они сразу же приступили к реализации планов по уничтожению России как единственной преграды на пути создания Глобального каганата. При этом они опять обращаются к технологиям, уже отработанным при развале СССР. Это заверения в дружбе, отсутствии каких-то враждебных планов. Это та же самая лесть и игра на самолюбии наших лидеров. После избрания Медведева они говорили, что будут реализовывать в отношении него те же технологии воздействия и нажима, что и на Горбачева. Они считают, что Горбачев и Медведев имеют схожие психологические слабости, которые можно использовать для того, чтобы заставить его сдать Россию. Проходит время, но эта направленность «стратегического альянса» Ватикана и хазарократии против нашей государственности не меняется. Именно поэтому нам нужно разобраться в том, как обрушили СССР и почему Войтыла стал папой. Нам нужно усвоить, наконец, что за заверениями Запада в любви и дружбе к России на самом деле исторически скрывалась и скрывается русофобия, ненависть к Православию, нашей стране и желание их уничтожить. А «милые» встречи на высшем уровне и ласкающие самолюбие улыбки есть то, что на языке стратегов называется «убаюкать противника». Чтобы усыпить его бдительность, а затем внезапным ударом нанести ему сокрушительное поражение. Короче: «Приходи к нам, тетя кошка, нашу мышку покачать!». Все это нужно понять, чтобы опять не сдать страну и не принять хазар за спасителей, не принять волка за овцу. Хазарократия привела Войтылу к власти. Он знал, кто его хозяин и чей он слуга. Они приказывали, он повиновался. В 1976 году «Journal Borghese» напечатал список 125 представителей высшего духовенства, которые являлись масонами в нарушение норм церковного права. Список был взят из Итальянского регистра тайных обществ и включал даты посвящения этих лиц в масоны и их тайные кодовые имена. Комптон приводит этот список, в который входят руководители радио и прессы Ватикана, католического образования, а также многочисленные высшие должностные лица, кардиналы и архиепископы. Казалось бы, после этой публикации должен был разгореться скандал с отлучением масонов от Церкви. Но почему-то публикация этого списка не имела никаких последствий. Иоанн-Павел II в своем служении хазарократии пошел дальше всех. 27 ноября 1983 года он издал папскую буллу, которая легализовала членство в тайных обществах для римокатоликов. То есть в 1983 году из католического юридического кодекса был изъят действовавший 200 лет канон N 2335, который запрещал католикам под страхом отлучения от Церкви пребывание в масонских ложах. Это означало официальное прекращение борьбы Ватикана с масонством и облегчало поддержание связей прелатов с мафиозными кругами. В том же 1983 году папа принял у себя членов Трехсторонней комиссии в полном составе (около 200 человек). Иоанн Павел II избрал также зловещий символ, использованный сатанистами в VI веке, который был реанимирован на Втором Ватиканском соборе. Это был согнутый (сломанный) крест. В средние века колдуны использовали его для проведения своих черных оккультных ритуалов. Он представлял «знак зверя». Комптон пишет: «Иоанн-Павел II носил этот предмет и показывал его толпам людей, которые даже не подозревали, что это символ антихриста». Вспомните оранжевую революцию, которая привела к приходу к власти на Украине проамериканский, точнее, прохазарский, антироссийский и антирусский оккупационный режим. Вспомните, с чего все начиналось? Как и в Польше, все началось с посещения папой Украины в 2001 году. Этот визит дал мощный стимул революционному процессу. Именно во время папского визита украинские националисты сплотились вокруг единого духовного символа. «Майдан», который так тщательно и умело организовали американские спецслужбы, начался и стал возможным после папского визита. Известно, что папа даже благословил Ющенко на президентство. После этого визита папы на Украину Николай Дорошенко написал: «У меня есть основания полагать, что по самой древней земле Святой Руси прошествовал под стеклянным пуленепробиваемым колпаком не пастырь верующих католиков, а фетиш финансовой и военной мощи Запада, отхватившего у России саму колыбель ее государственности - Малороссию». Ватикан был духовным стержнем оранжевой революции, объединившим вокруг себя все антирусские экстремистские силы. Эта революция была бунтом против России и против Православия как фундамента нашей государственности и жизнеспособности русского народа, к которому принадлежат и малороссы. Это было одновременно убийство и самоубийство народа, введенного в заблуждение Ватиканом, выполнявшим заказ ЦРУ и приказ хазарократии. После смерти Кароля Войтылы новым папой стал Йозеф Ратцингер, взявший себе имя Бенедикт XVI. В Ватикане Ратцингер был одним из главных архитекторов альянса с хазарским мировым правительством, готовящим приход антихриста. Ратцингер - это еще и раскол с Украиной. В свое время он возглавлял специальные службы Католической церкви, и он, как пишут о нем, «вряд ли откажется от продолжения политики натиска на Восток, в Россию». Католичество - христианство без Христа Куда мы идем? Каким будет предел всех нынешних потрясений? Я имею в виду не только войны, атомные или экологические бедствия, сколько внешнюю и внутреннюю для Церкви революцию, отступничество, овладевшее умами целых народов, которые некогда были католическими, и даже проникшее в церковную иерархию вплоть до самой ее вершины. Рим словно поразила слепота, Рим вечный оказался принужден к безмолвию, обездвижен другим Римом - либеральным Римом, который пытается занять его место. Источники божественной благодати и веры иссякают, и вены Церкви повсюду распространяют смертоносный яд натурализма. Архиепископ Марсель Лефевр «Они предали Его. От либерализма к отступничеству» Архиепископ Аверкий (Таушев) пишет: «Из многочисленных святоотеческих предсказаний еще первых веков христианства мы знаем, что большинство христиан последнего времени, угасших духом, безпечных и теплохладных, не узнают антихриста, когда он придет, и охотно поклонятся ему, как своему духовному вождю, господину и повелителю. А он вначале лицемерно проявит себя, как величайший ревнитель и покровитель всякого добра и даже христианства, но только без Христа и для многих, ревнующих о каноническом строе Церкви и о церковной дисциплине, особенно о послушании и подчинении церковным властям, явится строгим канонистом, сурово карающим всех, кто не захочет ему повиноваться и его почитать, опираясь на букву церковных канонов». Папа Бенедикт XVI продолжил дело своего предшественника по строительству нового мирового порядка. 7 апреля 2009 года он призвал к созданию «мирового органа политической власти» для руководства глобальной экономикой. Папа сказал буквально следующее: «Существует крайняя необходимость в настоящем мировом органе политической власти», чьей задачей было бы «управлять глобальной экономикой, чтобы оживить экономики, пораженные кризисом». «Нужно, чтобы этот орган власти был всемирно признан и наделен эффективной властью по обеспечению безопасности для всех». Это обращение папы было опубликовано накануне встречи Большой восьмерки в Италии, той самой, где уже демонстрировалась мировая валюта, которая должна стать одной из главных опор будущей системы мирового правительства. Фактически к его созданию и призывал Бенедикт XVI. Слова папы - это не только фразы, сказанные по случаю. За ними стоит целая идеология отхода от христианских догматов, явившаяся результатом глубоких изменений в католицизме, которые привели к Великой апостасии[1]. Об этих драматических признаках отступничества написал архиепископ Марсель Лефевр (1905-1991) в книге «Они предали Его. От либерализма к отступничеству» (СПб, 2007). Марсель Лефевр выступил против нововведений Второго Ватиканского cобора (1962-1965), следствием которых и стал процесс Великой апостасии. Второй Ватиканский cобор произвел революцию в Католической Церкви. Он ввел новое богословие, которое стало исходить из концепции антропоцентризма. Христианская религиозная доктрина строится на теоцентризме: Бог - в центре всего, «человек от Бога и для Бога». Но вот Второй cобор провозглашает «чудовищную доктрину» - антропоцентризм: человек - в центре всего. Собор объявил не Бога, а человека «центром и вершиной всего на земле», «принципом и концом всех установлений». Человек - в центре, а Бог рядом с ним, при нем, ему в услужение. Антропоцентризм означает утилитарный подход к Богу. Постулат «все для Бога» был заменен лозунгом «все для человека». В антропоцентризме заключена человеческая гордыня. Гордыня не может иметь границ. Это непрерывное движение в бездну падения. И потому антропоцентризм очень подвижен, он меняется вместе с неизбежным нарастанием человеческой гордыни. И постепенно в душу людей внедряется формула: «человек - в центре всего, он - самодостаточен». Но тогда - зачем ему Бог? А дальше появляется формула «Человек без Бога». Но и это еще не предел. Враг рода человеческого подбрасывает как можно больше дров в костер человеческой гордыни вместе с мыслями: «Ты - такой самодостаточный, что сам можешь придумать, создать себе религию, которая не обременяла бы тебя, как та, которая у тебя была. Смотри, сколько вокруг всяких религий и культов. Смешай их, возьми из их вероучения то, что тебя устраивает, то, что оправдывает твои грехи, твои мерзкие поступки, зачем тебе эти муки совести. Ты сам сотворишь идеальную для тебя религию и будешь жить в мире и безопасности. Этот пьянящий коктейль называется экуменизмом. Добавляй в него все новые и новые компоненты и пей его как можно чаще. Посмотришь, какой будет эффект». Эффект не замедлит себя ждать, потому что экуменизм еще не дно бездны под названием антропоцентризм. Дальше в сознании как бы сама собой, но откуда-то извне (душа, опьяненная гордыней, теряет чувствительность), появляется так ласкающая гордыню мысль: «Ну, какая же это религия без бога? Ты был настолько самодостаточен, что смог придумать для себя религию. Но ты - не только самодостаточен. Ты - велик. Докажи свое величие, и создай себе бога, выбери его для себя, проголосуй за него, как ты голосуешь за президентов. Я через демократию приучил тебя к голосованию политическому для того, чтобы ты, привыкнув к нему, не нашел ничего удивительного и необычного в голосовании духовном. Я тебе и кандидатуру подброшу. Ничего, что она одна. Ты же в течение многих лет убедился, что выборы носят абсолютно формальный характер. Это абсолютизм в яркой демократической карамельке. Выборы - это спектакль местного масштаба, где тебе позволяют принять участие в массовке. Но сейчас твоя роль значительно возрастет. Ты будешь участвовать в массовке глобального масштаба. Ты будешь выбирать для себя бога, который и станет одновременно твоим президентом. Нам нужно твое добровольное согласие. Да ты не волнуйся о последствиях. Мы тебя в течение многих лет демократии приучили, что твой голос, отданный на выборах политического президента, был пустой формальностью без всяких последствий. Демократические ритуалы в политике нужны нам были для того, чтобы подготовить тебя к «выборам» в религии. К послушному принятию тех кандидатур, которые тебе предложат сильные мира сего, и к добровольному голосованию за тех, кто будет потом защищать не твои, а их интересы. Здесь те же самые ритуалы и та же самая добровольность, на которых ты выдрессирован и к которым ты приучен. Здесь даже проще. Не нужно думать, кого выбирать. Здесь - кандидат один. Это твой будущий бог. Отдай за него твой голос. Нам нужно, чтобы ты сделал это добровольно. Ты - рядовой человек все время стремился возвыситься. Твоя гордыня постоянно не давала тебе покоя. Теперь у тебя есть шанс доказать свое «величие» на выборах не какого-то президента, а самого бога». Антропоцентризм - это антихристианство. Его следствиями являются атеизм (отрицание Бога), политеизм (свойственное сетевому мироустройству язычество, многобожие) и, наконец, антитеизм (борьба против Бога и приведение к власти антихриста). Антропоцентризм повлечет страшную нестабильность в мире. Почему? Да потому, что антропоцентризм замешан на гордыне человеческой, восставшей против Бога. Разжигание этой гордыни в людях неизбежно породит рост притязаний в странах и народах, столкновение разных гордынь на почве зависти, конкуренции, самомнения и высокомерия. Весь этот костер в душе обязательно выльется в костер войн, в разрушающий государственность этносепаратизм и гражданские войны, в революцию, которая охватит весь мир. Антропоцентризм - это и есть революция. А первым революционером был известно кто - дьявол, восставший против Бога. Мир в результате антропоцентризма будет погружен в хаос бесконечных войн и бедствий, так называемый управляемый хаос, что даст основания силам зла, которые все это запланировали, предложить изнуренному, ослепшему человечеству, новый мировой порядок во главе с глобальным правителем. Анализ опасности антропоцентризма в религиозном учении вообще и в католичестве в частности, приведен для того, чтобы мы, «учась на ошибках других», не допустили этой трагедии у себя, прежде всего через сближение РПЦ с Ватиканом, поддавшись прокатолическим настроениям и устремлениям. До тех пор, пока мы будем хранить веру Православную и бороться против зла, корабль Святой Руси будет плыть, хранимый Богом, несмотря на все бури и штормы вокруг. Чем больше будет в нашем народе людей православных, чем сильнее будет их вера, тем дальше сможем отодвинуть наступление страшных времен, о которых мечтает супостат, и так будем спасать себя, а заодно и все несмышленое человечество. Осознание колоссальной трагедии всего происходящего в мире, анализ этих событий и течений не должны приводить нас в пессимизм и отчаяние от того, что силы зла неуклонно побеждают и реализуют свои планы в глобальном масштабе. Понимание всей глубины драматичности современной ситуации нам нужно для того, чтобы прийти к выводу, что медлить нельзя, что нужно собрать все силы, что нам нужна самая настоящая духовная мобилизация в масштабах всей Руси. Без этой духовной мобилизации нельзя победить на фронтах войны духа. Потому что главные, самые ожесточенные и самые кровопролитные бои ведет против нас супостат на полях сражений именно этой войны. Он думает, что, увидев то, какие он одержал уже победы, сколько стран и религий он покорил, увидев то, как беспощадно уничтожает он тех одиночек, которые осмелились выступить против него, мы испугаемся и сдадимся. Он думает, что мы утратим надежду. Но победоносная история России как история войн за веру и подвиги наших предков в них учит нас понимать, за что мы воюем, что мы защищаем и за что мы готовы отдать жизнь в этих войнах. Это и есть наше главное оружие - родное Православие. Оно учит нас таким теплым и спасительным чувствам - вере, надежде и любви. Вот, что спасало нас всегда, спасет и сейчас. Вот, что должно быть начертано на знамени нашей будущей Победы. Безнадежность - это удел трусов, капитулянтов и рабов супостата. Надежда в Боге - это судьба героев-победителей, это судьба нашего народа, всем сердцем своим устремленного к Богу и уповающего на Него. Надежда в Боге - это судьба Святой Руси, под водительством Христа уверенно идущей сквозь века, сквозь все бури и испытания курсом Победы. Теоцентризм во Христе - это Победа, антропоцентризм - это неминуемое поражение и, как следствие, самое страшное - духовное рабство. Католическое руководство после Второго Ватиканского собора вступило на этот, второй путь, путь антропоцентризма, путь погибели. Дальше начинаются конкретные шаги по исправлению вероучения. Из Писания выбираются произвольно слова и поступки Христа, говорящие лишь о Его человеческой природе. В «Обязательных основах», одобренных в 1969 году, рекомендуется исключить всякую ссылку на «космические чудеса» (утишение бури, умножение хлебов), а также упоминание об ангелах, о бесноватых, о сатане, о вечном огне. Апостол Петр призывает нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5, 8). А здесь звучит прямо противоположный призыв - забыть об опасности зла и его существовании. Но тогда человек перестает «трезвиться и бодрствовать» и становится легкой добычей рыкающего льва, который поглощает свою жертву. Диавол - наш самый опасный противник и, по словам апостола, противостоять ему можно твердою верою. Но если нет диавола, то и оружия твердой веры не надо. Так получается. В новом католицизме чудесное объясняется с человеческой стороны, что низводит Спасителя до уровня некоего экстрасенса: «Иисус исцелял больных, но это не обязательно означает чудеса в том смысле, в каком мы часто об этом слышим. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них?» Но по этой логике получается, что любой экстрасенс, совершающий чудеса, может быть приравнен к Богу и может на основании совершения этих чудес объявить себя Богом. Но ведь это же схема действий антихриста. Его приход будет сопровождаться чудесами. «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24-25). Подчеркивание человечности Христа с умалением Его божественности осуществляется с тем же заблуждением, с каким когда-то ариане стремились «сделать христианство более доступным для язычников». Эта формула доминирования человеческого над божественным противоречит христианским догматам. В ней не Бог принимает образ человека, чтобы Своим примером и Своей жертвой спасти человечество, а человек может объявить себя богом, как это сделает в свое время антихрист. Но эта же формула заложена и в догмат о Папе Римском. Ведь его считают наместником Бога на земле. Но если один человек может быть наместником Бога на земле, то точно так же может стать им и другой. Так в сознание людей закладывается в принципе возможность превращения человеческого в божественное. Догмат о папе, таким образом, это матрица антихриста и подготовка его прихода. Происходит удивительная вещь - сближение и даже сращивание современного иудаизма и современного католицизма. Современный, созданный хазарами иудаизм сформирован на основе отступничества от Христа в процессе субъективных толкований Ветхого Завета. Современный католицизм сформирован на основе отступничества от Христа в процессе субъективных толкований, но уже Нового Завета. Более того, и те и другие использовали один и тот же аргумент. Приступая к дехристианизации Ветхого Завета, иудеи говорили, что его интерпретация нужна для того, чтобы сделать его доступным для рядовых людей. Приступив к дехристианизации Нового Завета, католики, вслед за еретиками-арианами, тоже говорят, что его интерпретация нужна для того, чтобы сделать его доступным для язычников. Не случайно ересь арианства cвятой Антоний Великий назвал последней предтечей антихриста. В предисловии к книге архиепископа Лефевра «Они предали Его» говорится о том, что в некоторых католических приходах родителям не советуют помещать распятие в детской, чтобы не травмировать детей. Предлагается заменить его «изображением собаки как символа верности», - изображением, которое они, повзрослев, найдут в катехизисе, где не будет ни слова о распятом Христе. Французские католические богословы даже меняют слова основных христианских молитв. Например, в молитве Господней при крещении вместо «Да будет воля Твоя» предлагается текст «Да будет воля Твоя праздником». Так формируется «богословие упразднения креста в обход страданий». «Упраздняя крест», современный католицизм не только отказывается от его несения («Кто не берет креста своего и следует за Мной, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38), но и отказывается от Воскресения («Без Голгофы, нет и Воскресения»). Это означает отказ от спасения в жизни вечной. Обход страданий прямо противоречит христианству, примеру, который явил нам Христос в своей земной жизни. Ведь стояние в вере, борьба со злом, неизбежно сопряжены с самопожертвованием и страданиями. Через них мы обретаем возможность спасения: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24,13). Обход страданий, таким образом, по сути, означает отказ от веры и ее защиты. Есть еще одно примечательное «нововведение» в католичестве. Новый Завет начинают рассматривать в координатах фрейдизма. Считают, что язык Христа, говорящего о своем Отце, не может быть приемлем для людей, знакомых с Фрейдом, так как слово «сын» предполагает брачные отношения, а Бог - дух. Поэтому, говоря о Боге, следует говорить об источнике жизни и не употреблять слово «Отец». Что называется «приехали». Они хотят угодить Фрейду, а не Богу. Новое католичество рассматривает Новый Завет с точки зрения фрейдизма. При этом приоритет отдается последнему. Все правильно и логично. Там, где человеческое доминирует над божественным, там плотское, физическое, материальное неизбежно начинает доминировать над духовным. Дальше кубарем в бездну греха и прямо в ад. Именно на такой путь толкает своих адептов современный католицизм. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13, 15). Отказ от употребления слова «Отец» в новом католицизме следует понимать как отказ от понятия «Троицы». Святые отцы писали, что понятие ипостаси «Отец» в христианстве выше, чем понятие «Бог», потому что «Отец» включен в понятие «Троицы» и через Него это понятие можно раскрыть и усвоить. Понятие «Бог» может употребляться во множественном числе. Иисус в ответ на обвинения иудеев сказал, приведя слова из псалма 81 стих 6: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (Ин. 10, 34). И полный текст звучит: «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы». То есть, Отец Всевышний - только один. Вышесказанное поясняет, что понятие «Отец» выше понятия «Бог». Отказ от первого понятия имеет далеко идущие духовные, политические и социальные последствия. Это означает еще и отказ от парадигмы вертикальной иерархичности с Отцом на вершине в угоду горизонтальной, разлагающей все сети. Сознание, на котором строится православная вера, православная монархическая государственность и православная семья, является иерархическим. Наверху Отец Небесный - глава Отечества небесного, дальше помазанник Божий - государь во главе Отечества земного и еще ниже в иерархии отец семьи как малой Церкви. Нижние подчиняются Высшему и несут перед Ним ответственность. Убери понятие «Отец» - уйдет понятие иерархии и разрушится в человеке духовный стержень, на котором держится вера, традиционное государство и семья. Но ведь именно они и есть главные преграды на пути строительства Глобального каганата, а потому и являются главными мишенями, подлежащими тотальному уничтожению. Выходит новое католичество действует в этом направлении, уничтожая большую иерархию и насаждая сеть, где нет вертикали, а есть горизонталь с ее язычеством, космополитизмом и заменой семьи на безответственное партнерство. Отказ от понятия «Отец» - это и отказ от тесно связанного с ним понятия «Отечество». Это переход от патриотического сознания к космополитическому, как необходимому условию отказа от национальной государственности и строительства Глобального каганата. Попытка пересмотра основных догматов христианства является «негативной Христологией, идущей от земли. Бог размывается в человечестве. Это страшное размывание границ света и тьмы». Добавим, что это еще и попытка заменить свет тьмою. В 1975 году, через 10 лет после Второго Ватиканского собора, Лефевр констатирует: «Папы (Иоанн XXIII и Павел VI) поддержали эти нововведения, и либеральные идеи широко проникли в Собор... Можно видеть, насколько либералы противостоят Господу нашему Иисусу Христу и Его Церкви». Эти антихристианские изменения в католическом вероучении сопровождаются антихристовым экуменизмом. «Экуменизм - не есть миссия Церкви, - говорит Лефевр, - Церковь не должна быть экуменической, она должна быть миссионерской. Миссионерская церковь имеет целью обращение к истинной вере. Экуменическая - найти то, что есть истинного в заблуждениях и остаться на этом уровне. Это означает отрицание истины Церкви. Согласно экуменизму, у Церкви нет больше врагов. Те, кто пребывает в заблуждении - братья. Потому нет больше необходимости сражаться с ложью. Уже практически никого и ничто не осуждают, не отвергают сомнительного учения, не отмечают еретиков раскаленным железом бесчестия. Стадо овец Христовых предается волкам-расхитителям». Так пишет Лефевр в другой своей книге «Они прокляли Его». Иоанн Павел II в своих проповедях неоднократно призывал к экуменизму, к объединению всех религий. Это было одной из его главных задач. Он посещал места отправления религиозных культов многих религий и совершал совместные молитвы с представителями нехристианских конфессий. Он молился в лютеранской церкви. Он был первым папой, который в 1986 году посетил синагогу и установил дипломатические отношения между Израилем и Ватиканом. Джованни Каприль - известный хроникер Ватикана написал тогда: «Это было поистине историческим событием. Первый и единственный визит в жизни Церкви и еврейского сообщества со времен святого Петра» (Il Giornale, April 13, 1986, apud Giovanni Caprile, «Il Papa al tempio ebraico di Rome,» La Civiltа Cattolica, May 3, 1986). Иоанн-Павел II встречался с колдунами и шаманами и даже принимал участие в их ритуалах в лесу в Того. В 1986 году Иоанн-Павел II совершил в Италии объединенную молитву за мир совместно с лидерами 12 религий, включая иудеев, буддистов, унитариев (это секта, не принимающая один из основных догматов христианства - догмат Троицы), последователей зороастризма, синтоизма, индуизма, языческих культов Африки и Америки. Там были также протестанты и, даже, православные. Все они молились за мир с Далай Ламой и поставили статую Будды на алтарь. Папа Иоанн-Павел II заявил тогда, что все они молятся одному и тому же Богу с одной и той же целью, и что их духовная энергия принесет новый климат мира. При Иоанне-Павле II был создан Папский совет по межрелигиозному диалогу. Папа полагал, что общие устремления к миру сотрут религиозные различия. Он говорил, что придет день и будет объединенная вера (то есть иначе говоря, вера антихриста. - Авт.) и что люди будут все религии исповедовать вместе. Он пропагандировал такой подход, при котором все церкви, религии, организации и индивиды пошли бы на то, чтобы поступиться ключевыми принципами своих религий во имя мира и безопасности (Dana Gabriel, «Towards A One World Religion», June 25, 2007). Вспомним в связи с этим слова апостола Павла: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фес. 5, 3). Профессор МДА А.И.Осипов дает такие пояснения к этим словам: «Мира и безопасности человечество ищет всю свою историю. Апостол же говорит о времени, когда эта цель будет достигнута (с образованием одного государства на земле с единым правительством и единым Царем вселенной). Тогда внезапно наступит гибель человечества... Также очевидно, что в сознании всех людей утвердится идея тождественности по существу всех религий (есть только одна религия, а все существующие - лишь ее различные модификации). Эта «единая религия будущего», о которой писал современный православный подвижник в Америке иеромонах Серафим Роуз († 1982), сохранит, возможно, по форме прежнюю многоконфессиональность. Однако, по существу, это будет уже идеология, поскольку в ней произойдет катастрофическая подмена искания Царства Небесного и правды его жаждой царства земного и всех наслаждений его, подмена духовных целей мирскими, языческими, так что все усилия этой религии (т. е. всех религий, включая и христианские) будут направлены на достижение только земных благ... При антихристе произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним как Царем вселенной. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13, 7). Без сомнения, он будет торжественно помазан на царство главами всех церквей и религий. Это «помазание», наряду с «чудесами», станет для язычествующих христиан одним из самых убедительных аргументов того, что этот Царь мира и есть пришедший Христос. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни» (Откр.13, 8) (http://osipov.vinchi.ru/books/list.html). 15 июня 1988 года на пресс-конференции, посвященной его разрыву с Римом, Марсель Лефевр сказал: «Папа, смешавший все религии, - это позор». Следуя логике Лефевра, широко обсуждаемые планы сближения Русской Православной Церкви и Церкви Католической тоже можно назвать «нечестивым и богохульным проектом», ибо он символически поставит «знак равенства между истиной и заблуждением» и включит РПЦ в реализуемые ныне Ватиканом антихристовы планы. Развал национальной государственности через вирус католицизма Современный католицизм прокладывает путь антихристу и становится его наемником. Особую роль играет он в реализации такой антихристовой цели, как развал национальной государственности, как одного из главных препятствий для строительства Глобальной империи. Как это можно наиболее эффективно сделать? Да очень просто - разрушив христианство. Какая связь? - спросите вы. А вот, какая. Наш замечательный философ И. Ильин высказал в свое время мысль о том, что залогом прочности и единства государства является прочность и единство его духовного фундамента. Разрушь этот фундамент - разрушится и государство. Отсюда логика: если нужно уничтожить государственность, нужно уничтожить ее религиозное основание. Причем речь здесь идет не об одном или даже нескольких государствах. Нет, католицизм является основанием многочисленных государств. Поэтому разложение католицизма означает подрыв устоев основанной на католицизме государственности в глобальном масштабе. Дальше путем агрессивного подталкивания к сближению с католицизмом духовного руководства православных государств, можно легко запустить аналогичные деструктивные процессы по низложению православной государственности. Здесь главной мишенью, без всякого сомнения, является Россия. Вот так, одним выстрелом бьют сразу по всем зайцам в лесу. Таким образом, постановка под контроль руководства Ватикана и всех процессов в католической Церкви является одним из главных направлений деятельности хазарского руководства. Здесь ставки не просто жутко высоки, они глобальны, потому что речь идет, в конечном счете, об уничтожении через вирус католицизма всей христианской государственности в мире. Поэтому так важно обеспечить приход к духовному руководству в некатолических христианских государствах тех лидеров, которые будут склонны к установлению тесных контактов с католическим руководством. Именно оно призвано в качестве наемников обеспечить процессы дехристианизации христианских государств для подрыва их устоев и дальнейшей ликвидации. Дехристианизация является главным и самым опасным в мире оружием массового государственного и социального уничтожения в руках хазар - слуг антихриста. Носителями бомб, начиненных зарядом дехристианизации, стало руководство Католической Церкви. Это подтверждает тот факт, что важнейшим результатом Второго Ватиканского собора стала стремительная дехристианизация западных государств. Архиепископ Лефевр пишет: «Уже в своем «Послании правителям» в конце Собора Павел VI вопрошал: «Что требует от вас Церковь? - и отвечал: - Она требует от вас только свободу. - Это ужасно! Я нахожу это ужасным, потому что это отдает затхлым запахом ада. Свобода существует, чтобы повиноваться Богу, она - в зависимости от истины, в зависимости от добра, в зависимости от Бога! Но нет, из свободы хотят сделать нечто абсолютное - безотносительно чего бы то ни было». Этот принцип, по мнению Лефевра, приводит к разрушению всяческой власти в семье, в Церкви, в религиозных обществах. «Это поистине внутренняя революция. В ней вопль сатаны: «Я не буду служить! Оставьте меня в покое, дайте мне пожить!» А наш Господь заповедал своим апостолам проповедовать всем народам Евангелие, а не проповедовать свободу!» Собор сформулировал новые установки в области отношений с государствами. Отныне церковное право должно приспосабливаться к новой общественной реальности. То есть политическое, экономическое, материальное ставится выше духовного, выше религиозного. Душа оказывается внизу, распластанная, раздавленная под тяжким грузом плоти и сознания, разнузданных, растленных ничем не ограниченной свободой. В отделении Церкви от государства Лефевр видит настоящее предательство: «Покончено принципиально с государством, исповедующим христианскую веру». Это и есть «цель диавола, стоящего за франкмасонством - разрушение Церкви... с запретом государству созидать в социальной сфере Царство Господа нашего Иисуса Христа». В результате этого нововведения духовная власть перестала быть на вершине иерархии в католических государствах, перестала выступать их связующей скрепой. Треугольник иерархической государственности, где верхнюю позицию занимала Церковь, перевернулся вершиной вниз, и над властью духовной оказалась власть экономическая и политическая. Духовная власть добровольно подчинилась власти экономической (в лице хазарских банкиров) и власти политической, которая управляется и контролируется этими же банкирами. Таким образом, Католическая Церковь лишила себя учительства в сфере нравственности, следствием чего и стала бурная дехристианизация католических государств, сползание в толерантность, экуменизм и космополитизм как основу для их разгосударствления и включения в состав Глобальной Хазарии. В книге «Они прокляли Его» Лефевр пишет о существовавшем заговоре, связанном со Вторым Ватиканским собором, что выдает наемническую сущность высшего католического руководства: «На этом Соборе имел место заговор, заговор подготавливался заранее, в течение многих лет. Все было сделано, чтобы обсуждение отцов не было свободным, чтобы группки, нацеленные на разрушение Церкви, могли манипулировать епископами». Лефевр подозревает в соучастии в заговоре папу и не исключает того, что его избрание было тоже следствием махинаций. Вариант идеальный и беспроигрышный. Если на папский престол ставится завербованная, наемная фигура, то наниматели получают колоссальные возможности безграничного воздействия на все католическое руководство и его паству, то есть на весь католический мир. Ведь с точки зрения католического учения, папе подчиняется Сам Дух Святой. Таким образом, папа непогрешим, равно как и непогрешим Собор под его председательством. Но Лефевр, разоблачая его драматические последствия, ради защиты веры, идет на то, что объявляет этот Собор «лжесобором», отвергая, по сути, лжеучение о главенстве папы. И это беспрецедентный в истории католичества случай. Если сравнить с Православной Церковью, то в отличие от католической, в ней «авторитет Соборов никогда не признавался механически. Церковь таинственным образом признавала действие Святого Духа в деяниях Собора или не признавала, как в случае известных «разбойничьих соборов», древности». И дальше звучит обвинительный приговор Лефевра: «Я решительно утверждаю, что Собор осуществил поворот церкви к миру. Я оставляю вам самим задуматься о том, кто был вдохновителем этой духовности... Это был тот, кого Господь наш Иисус Христос называет князем мира сего». По сути, это обвинение католического руководства в сатанизме, это обвинение его в том, что они фактически стали наемниками князя мира сего. Внедрение его духа, духа мира, Лефевр считает причиной кризиса церкви: «Я хотел бы отметить внешние причины кризиса церкви, а именно - либеральный, настроенный на земные удовольствия менталитет, который распространился в обществе... Собор сделал все, чтобы подтолкнуть жизнь мира в этом направлении». Фигура папы как главного наемника и руководителя наемников в духовной власти приобретает во всем этом заговоре и сговоре с князем мира сего решающее значение. Нам тоже нужно знать механизмы этих адских хазарских сценариев, чтобы не допустить развала Православия у себя, подобно тому, как произошел распад католицизма. Главное для нас, православных, хранить нашу веру как единственное для нас пристанище и спасение в бурях всевозможных и не вступать в компромисс со злом. Главное, не допустить у нас формирования внутреннего Ватикана, который является одной из самых главных угроз Святой Руси. Католическая церковь стала проявлять сейчас повышенную активность в отношении к Русской Православной Церкви. Об этом свидетельствует ряд интенсивных встреч, состоявшихся с представителями нашей церкви. Это подтверждается рядом последних новостей о совместных контактах. Приведу только два из них. Журнал экуменических новостей «Ecumenical News International» в номере от 6 апреля 2009 года дает высокую оценку деятельности и личности архиепископа Илариона, который получил образование в Оксфорде и был представителем Московского Патриархата в Европейских организациях в Брюсселе. В марте 2009 года его назначили главой ОВЦС Московского Патриархата. Иларион является членом Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. Архиепископ Иларион поддерживает тесные отношения с Ватиканом, о чем свидетельствует ряд интенсивных встреч, проведенных осенью. 18 сентября 2009 года архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, находящийся с официальным визитом в Риме, встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI в его летней резиденции в Кастельгандольфо. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был затронут широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Архиепископ Иларион подчеркнул важность совместного свидетельства православных и католиков о традиционных христианских ценностях перед лицом секулярного мира. Архиепископ Иларион отметил необходимость наращивания позитивного потенциала двусторонних отношений, в том числе взаимодействуя в сфере культуры... По окончании беседы, происходившей с глазу на глаз, архиепископ Иларион представил папе Бенедикту XVI своих спутников: секретаря ОВЦС по межхристианским отношениям протоиерея Игоря Выжанова, клирика храма святой великомученицы Екатерины в Риме игумена Филиппа (Васильцева) и сотрудников ОВЦС Дж. Гуайту и И.М.Копейкина (Служба коммуникации ОВЦС). 30 июня 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископа Волоколамского Илариона с монсиньором Винченцо Пальей, епископом Терни-Нарни-Амелии, председателем Комиссии по экуменизму и диалогу Итальянской епископской конференции, духовником Общины святого Эгидия, и профессором Адриано Роккуччи, генеральным секретарем Общины святого Эгидия. Во встрече также приняли участие сотрудники Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям А.В. Дикарев и Дж. Гуайта... Участники встречи уделили внимание путям развития отношений Русской Православной Церкви с Итальянской епископской конференцией, отдельными католическими епархиями в Италии и Общиной святого Эгидия. Стороны согласились, что в новых условиях православно-католическое взаимодействие приобретает особое значение, поскольку позиции обоих Церквей по наиболее актуальным проблемам современного мира совпадают (Служба коммуникации ОВЦС). Вот совпадение этих позиций, учитывая вышеизложенные тенденции в Католической Церкви, вызывает беспокойство. Века русской истории свидетельствуют, что Ватикан всегда был крайне агрессивным врагом нашей государственности и Православной веры. И не нужно питать иллюзий, что что-то переменится сейчас. В настоящее время, учитывая все изложенные выше обстоятельства, их борьба против нас будет приобретать все более острый и изощренно лукавый характер. И потому можно ожидать, что внешний Ватикан будет формировать Ватикан внутренний непосредственно в России, в недрах РПЦ, в рядах православной общественности и в органах государственной власти. Будут предприняты попытки создать войско наемников, пятую колонну, чтобы тотально разрушить все изнутри, как веру, так и государственность. Духовное оружие несопоставимо сильнее атомного, любых самых современных и даже будущих средств массового уничтожения. Духовное оружие уничтожает душу и лишает людей не только способности, но даже мыслей о сопротивлении оккупантам. За уничтожением души следует полный паралич воли, сознания и физическое уничтожение или самоуничтожение. Надо полагать, что на формирование внутреннего Ватикана будут пущены огромные силы и средства колена Данова, включая средства финансовые. Ведь Ватикан уже очень давно и прочно связан с Ротшильдами и с их деньгами. Более того, он зависит от них и еще по этой причине стал одним из главных отрядов иллюминатов, созданных Ротшильдами - вождями хазарократии. Как пишет Колеман, этот альянс Ватикана и Ротшильдов образовался давно, еще в ХIX веке. Когда Ватикан переживал финансовые затруднения, Ротшильды предоставили ему кредит на сумму в 5 миллионов. В знак благодарности Папа Римский Григорий XVI (1831-1846) наградил Кальмана Ротшильда папским орденом. Тогда Ротшильды стали финансовыми агентами Ватикана, а Ватикан стал союзником и орудием Ротшильдов. Благодаря Ватикану, Ротшильдам удалось распространить свое политическое и финансовое влияние в США и поставить под свой контроль эту страну. Одним из главных результатов этой совместной подрывной деятельности Ватикана под руководством Ротшильдов стало создание Федеральной резервной системы США, означавшее утрату суверенитета этой страны и оккупацию ее хазарократией. Так находящаяся в руках Ротшильдов финансовая платформа Ватикана породила их духовный союз, имеющий общие интересы и сражающийся за общие цели. Интересы и цели Ротшильдов стали интересами и целями Ватикана. Сформировался духовный блок, ориентированный на приведение антихриста к власти. Русское Православие и русская православная монархическая государственность, вместе образующие Святую Русь, всегда были и сейчас являются главными препятствиями, удерживающими на пути достижения этих злокозненных целей. Поэтому все мощные орудия блока Ротшильды-Ватикан направлены против Святой Руси, против нашего народа. Вы скажете, что русская православная монархическая государственность уже давно уничтожена. Это так, но она будучи уничтожена физически, не перестает существовать как память, как высокая идея в духовном пространстве, в душе православного человека. А, значит, в духовном пространстве Святая Русь жива и существует. А этого слуги антихриста боятся больше всего. Потому и воюют против нас так ожесточенно. Ватикан как союзник и орудие Ротшильдов опасен и силен в своей разрушительности многократно больше, чем раньше. И потому нужно эту угрозу учитывать как никогда раньше. Союз и сотрудничество с Ватиканом означает сейчас союз и сотрудничество с Ротшильдами, являющимися функциями антихриста. Союз с Ватиканом будет для нашей церкви означать не что иное, как союз с антихристом со всеми вытекающими отсюда последствиями для нашей веры, народа и государства. Тем, кто стоит на позициях формирования такого альянса, нужно вспомнить русскую историю. Как пишет архиепископ Аверкий (Таушев): «Сколько ни было со стороны римских пап попыток подчинить себе русский народ, попыток, неизменно и настойчиво повторявшихся чуть ли не при каждом великом князе и государе с самыми льстивыми обещаниями и предложениями, они всегда решительно отметались. «Мы знаем истинное учение Церкви, а вашего не приемлем», - так, например, отвечал в 1251 году папе Иннокентию IV святой благоверный князь Александр Невский в ответ на приглашение его вступить под сень римского престола, взамен чего обещалась ему помощь против татар: крестовый поход для освобождения русского народа от татарского ига - предложение, казалось бы, столь соблазнительное после пережитых от татарского нашествия бедствий и тяжкого гнета татарской неволи». Преподобный Феодосий Печерский о латинянах пишет: «Множеством ересей своих они (латиняне) всю землю обезчестили... Нет жизни вечной в вере латинской». Преподобный Максим Грек в XVI в. писал: «Я в своих сочинениях обличаю всякую латинскую ересь и всякую хулу иудейскую и языческую». Преподобный Паисий (Величковский) (1722-1794) пишет о латинстве, что оно откололось от Церкви и «пало... в бездну ересей и заблуждений... и лежит в них без всякой надежды восстания». И ниже: латиняне - «не суть христиане» (Сочинения о знамении Честного и Животворящего Креста. Рк.БАН, 13.1.24, гл. 11, л. 39, 88 об.). Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867): «Папизм - так называется ересь, объявшая Запад, от которой произошли, как древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех - отречение от Христа, нежели отречение от папы. Папа есть идол папистов; он - божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане - изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма». Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891): «Православная Восточная Церковь от времен апостольских и доселе соблюдает неизменными и неповрежденными от нововведений как учение евангельское и апостольское, так и предание святых отцов и постановления Вселенских Соборов... Римская же церковь давно уклонилась в ересь и нововведение...» И далее: «Римская церковь... так как не хранит свято соборных и апостольских постановлений, а уклонилась в нововведения и неправые мудрования, то совсем не принадлежит к Единой, Святой и Апостольской Церкви» (Собрание писем блж. памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 1. Сергиев Посад, 1913. С. 231, 232, 235). Святитель Феофан Затворник (1815-1894): «Верить, что Дух Святой исходит от Бога Отца, есть догмат обязательный, а верить по-латински, что Он исходит и от Сына, есть уклонение от Церкви, ересь» (Письма о христианской жизни. М., 1908. С. 37). Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908): «Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: «кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12, 30). Католики, лютеране и реформаторы отпали от Церкви Христовой... они явно идут против Христа и Его Церкви... не уважают постов, извращают догматы веры спасительные. Они не с нами, против нас и против Христа». «Ненависть к Православию, фанатизм и преследования православных, убийства - проходят красной нитью чрез все века жизни католичества. От плодов их познаете их. Таков ли дух заповедан нам Христом? Если кому, то католикам, лютеранам и реформаторам можно сказать: «не весте, коего духа есте». «Католики отпали от Главы всей Церкви - Христа, избравши земную главу - погрешающего папу». «Глубоко чужда была русскому человеку всякая идея какого бы то ни было компромисса со злом. Он всегда чувствовал душой своей ее фальшь и неправославность и горячо восставал против нее... ...Итак, если мы желаем быть верными всему великому прошлому нашей Родины, олицетворенному в святых угодниках Божиих, в земле Российской просиявших, для нас возможен один-единственный путь - путь безкомпромиссной непримиримости с сатанинским злом, исключающий, конечно, мнимохристианское лобзание с антихристом, ибо «кое общение свету ко тьме? Кое же согласие Христови с Велиаром? Или кая часть верну с неверным?» (2 Кор. 6, 14-15). И это путь, конечно, подлинно христианский, подлинно церковный, как основанный на слове Божием и примере многочисленных угодников Божиих, прославленных Церковью именно за этот путь!» (архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время, М., 2006). Кто готовит Восьмой Вселенский? На сегодняшний день существуют серьезные опасения и даже тревога в связи с тем, что Православной Церкви искусственно навязывается дух разрушительного либерализма. Эти опасения имеют под собой реальную почву, так как идет активная подготовка к так называемому великому Священному собору Православной Церкви. Поборники экуменизма вновь принялись за созыв Восьмого Вселенского собора. Не секрет, что подготовка к этому собору ведется уже давно. Еще в 1961 году на острове Родос по инициативе митрополита Ленинградского Никодима, который в то время возглавлял Отдел внешнецерковных сношений МП, было созвано так называемое Всеправославное совещание, на котором присутствовали экуменически настроенные представители Поместных Церквей. В 1976 году вторично собрался форум, названный Всеправославным предсоборным совещанием, уже не скрывая, что его цель - подготовка к проведению Восьмого Вселенского собора. Но воплотить в жизнь свою мечту созыва Восьмого Вселенского, в котором в первую очередь нуждаются экуменисты для утверждения своей ереси, митрополиту Никодиму не удалось в связи с неожиданной смертью у ног Папы Римского Иоанна Павла I 5 сентября 1978 года. Следуя экуменической традиции, папа прочитал отходную митрополиту Никодиму и его отпели в католическом храме. Обстоятельства смерти митрополита Никодима оказались глубоко символичными - он был большим почитателем католической «церкви», посвятил папе Иоанну XXIII свою докторскую диссертацию, а каждую поездку в Рим воспринимал как «паломничество к апостольскому престолу». По своим религиозным взглядам митрополит Никодим явно тяготел к католичеству. Например, он публично восхищался католическими соборами, утверждая, что в них якобы есть истинное величие в отличие от наших, менее просторных православных храмов. Опубликовано немало личных свидетельств служения митрополитом Никодимом «приватных месс» по латинскому обряду. В 1969 году заслугами митрополита Никодима постановлением Священного Синода РПЦ МП до таинств были допущены католики. Но вскоре это скандальное постановление отменили. Нужно сказать, что с символичной смертью митрополита Никодима проповедуемая и усиленно насаждаемая им ересь экуменизма не перестала существовать в Русской Церкви, поскольку он успел оставить после себя плеяду своих учеников, которых в свое время сумел рукоположить в священный сан и поставить на руководящие должности. А идеалом и главной мечтой митрополита было «воссоединение с великой церковью Запада» через проведение Восьмого Вселенского собора. В сентябре 1991 года на швейцарском совещании «Православные Церкви и ВСЦ» Вселенский Патриарх Варфоломей (Архондонис) совместно с руководством ОВС РПЦ приняли совместное заявление о том, что «православное участие в экуменическом поиске единства христиан требует постоянного очищения Православия». От чего же, простите, надо «очищать» святое, непогрешимое Православие? В 6-й главе своей масонской диссертации Варфоломей прямо говорит о необходимости создания «новых канонов»... До середины XIX века в Православной Церкви даже и не помышляли о Восьмом соборе, хотя до этого положение Церкви не раз было очень серьезным (падение латинян (1054 г.), Флорентийская уния 1453 года, реформы Лютера (1521 г.) и прочее. Лишь с проникновением в православное богословие протестантских воззрений возникла мысль о его созыве... Православные богословы того времени говорили не о невозможности, а об отсутствии необходимости его созыва, поскольку задача Вселенских Соборов - обличение возникшей ереси. А так как ереси латинян, протестантов и прочих сектантов осуждаются определениями Семи Вселенских соборов, то в созыве Восьмого собора нет никакой необходимости. Похоже, теперь экуменистически настроенные иерархи решили, что настал подходящий момент для возобновления неудачной попытки - созвать и провести Восьмой Вселенский собор. Подготовка к нему сейчас идет полным ходом. Активно ведутся предсоборные встречи и переговоры. Вселенским Патриархом Варфоломеем выдвинуто десять тем для обсуждения. 1. Православная диаспора. Определение юрисдикции православных объединений за пределами национальных границ. 2. Процедура признания статуса церковной автокефалии. 3. Процедура признания статуса церковной автономии. 4. Диптих. Правила взаимного канонического признания Православных Церквей. 5. Установление общего календаря праздников. 6. Правила и препятствия для совершения таинства брака. 7. Вопрос поста в современном мире. 8. Связь с другими христианскими конфессиями. 9. Экуменическое движение. 10. Вклад Православия в утверждение христианских идеалов мира, братства и свободы. Сразу возникает вопрос: а разве эти вопросы не были решены на предыдущих Вселенских соборах и надо ли для их решения собирать новый Вселенский собор? По этому поводу можно привести слова святого преподобного Иустина (Поповича): «Историческая реальность очевидна: святые и Богом созванные Соборы святых отцов всегда имели перед собой один или, самое большее, два-три вопроса, остро поставленных им великими ересями и расколами, извращавшими Православную веру, раздиравшими Церковь и серьезно грозившими опасностью для спасения человеческих душ, спасения православного народа Божиего и всего творения Божиего. Поэтому Вселенские соборы всегда имели христологический, характер, то есть их центральной темой - единственной темой и главным благовестием - всегда был Богочеловек Иисус Христос и наше спасение в Нем». Таким образом, Вселенские соборы защищали чистоту и правильность веры, поэтому обсуждаемые на них вопросы в основном были догматическими. Предстоящий же Восьмой Вселенский собор не имеет на повестке дня догматических вопросов, по которым ранее не было принято решений на предыдущих Соборах. Для православных проведение Восьмого Вселенского собора было бы полезно лишь в одном случае: если бы на нем последовала правильная экклезиологическая оценка и осуждение ереси экуменизма, которая готовит приход антихриста. Но такая тема подниматься не будет, так как цель этого собора - узаконить эту ересь ересей, как называл ее преподобный Иустин (Попович). И собирают его экуменисты, чтобы оправдать свое вероотступничество, свои изменнические действия по отношению к Православной вере. Они надеются большинством голосов на этом «соборе» изменить каноны, которые мешают сломить перегородки между Православной Церковью и учениями псевдохристианских конфессий. А затем, ссылаясь на авторитетность Восьмого Вселенского, заставить православных под предлогом послушания подчиняться и выполнять их волю, которая будет направлена на объединение всех религий в единую религию нового миропорядка. Что касается первых четырех пунктов, то все они обсуждались на Семи Вселенских соборах и святыми отцами приняты постановления, которые нам лишь необходимо исполнять. Тем не менее, притязания Константинопольского Патриархата на управление православными народами по образчику латинской конфессии очевидны. Пятый пункт также был рассмотрен еще на Первом Вселенском соборе в Никее и всем православным заповедано держаться месяцеслова в соответствии с юлианским календарем. Однако экуменисты стремятся ввести новый календарный стиль, совпадающий с латинским. Пункт шестой внесен Варфоломеем для удовлетворения обновленческой прихоти: женатый епископат и двоеженство у священников. Седьмой пункт - упразднение экуменистами постов (послабление), вопреки определениям Семи Вселенских соборов. Последние же три пункта - не что иное, как утверждение ереси экуменизма. Из вышеперечисленных пунктов абсолютно ясно, что для православных нет никакой нужды в проведении собора, но этот собор необходим экуменистам для утверждения своих еретических воззрений и предания им авторитетного статуса. Экуменизм - это новая религия, в которой стираются все вероисповедные границы, что является необходимым для воцарения антихриста. Можно сказать, что экуменизм - это антихристова вера. Как пишет о ней преподобный Иустин: «Экуменизм является общим наименованием для лжецерквей Западной Европы. Их общее имя - всеересь». Получается, что главная цель «собора» - не осудить уже распространившуюся ересь экуменизма, а узаконить ее. Поэтому последователи этого лжеучения так активизировали свою деятельность и спешат провести так называемый всеправославный собор. 9-17 декабря 2009 года в православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) прошло заседание Межправославной подготовительной комиссии, созванной в целях дальнейшей проработки вопросов повестки дня Восьмого Вселенского собора. Собравшиеся иерархи известили о том, что они уже рассматривают последние вопросы. (http://sobor8.ru/23dec-09-telegramma.html). Но при этом сведения о «восьмом вселенском» довольно скудны, и создается впечатление, что они старательно замалчиваются. В результате многие даже не подозревают, что в очень скором времени вынуждены будут встать перед фактом грубого попрания Православной Веры, измены Преданию, Святоотеческому учению, нарушения канонов. Давайте обратимся к пророчествам святых отцов о грядущем Восьмом Вселенском соборе: Преподобный Кукша (Величко): «Последние времена наступают. Скоро будет экуменический собор под названием «святой». Но это будет тот самый «восьмой собор, который будет сборищем безбожных». На нем все веры соединятся в одну. Затем будут упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено, епископы будут женаты. Новостильный календарь будет введен во Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать Божии храмы, пока они еще наши. Скоро нельзя будет ходить туда, все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае. Молю вас, стойте в Православной вере до конца ваших дней и спасайтесь!» Архиепископ Феофан Полтавский: «О Восьмом Вселенском соборе я пока ничего не знаю. Могу сказать только словами св. Феодора Студита: «Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в Истине». Истинно Вселенский Собор зависит не от количества собравшихся на него епископов, а оттого, будет ли он мудрствовать или учить православно. Если же отступит от истины, он не будет вселенским, хотя бы и назвал себя именем вселенского. Знаменитый «разбойничий собор» был в свое время многочисленнее многих Вселенских соборов, и тем не менее не был признан вселенским, а получил название «разбойничьего собора»!..» (Служба святым отцам Седьмого Вселенского собора, октябрь, 11-й день, Богородичен по 6-й песни канона святым отцам). Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Псково-Печерский монастырь: «Храните заветы, которые были даны предшественниками ныне возведенного на Патриарший престол Алексия. Первое. Чтобы был у нас стиль старый! Другого мы принимать не можем. Второе. Чтобы мы были строго православными. Мы никогда ко всем инославным не относились с неприязнью. У нас в этом отношении совесть чиста. Но мы шли своим строго очерченным путем! Как наши предшественники, так и мы, уходящие теперь со дня на день в потусторонний мир, призываем вас хранить чистоту Православия. Третье. О том, чтобы свято хранить церковнославянский язык. Четвертое. Некоторых сейчас страшит Восьмой Вселенский собор. Не смущайтесь этим, только спокойно веруйте в Бога, ибо сказал ушедший в вечность Патриарх <Пимен> в личной беседе, что если что-либо будет на Восьмом ожидаемом Вселенском соборе, что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими соборами, мы вправе это не принять. Вот его завещание, сказанное хотя и в частной беседе, а я вам уже повторяю его второй или третий раз в исполнение своей совести, ибо я задавал эти вопросы и я получал на них ответы. И поэтому меня сейчас не смущает ничто: ни скоротечность времени, ни избрание, ни то, что было. Все это можно обобщить одним понятием: мы живем во времена апокалипсические. А поэтому <...>, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. И все у вас да будет с любовью (1 Кор. 16, 13-14). Преподобный Серафим Саровский: «Будет время, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего будут изменять и извращать догматы (учения) и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от Самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания Своим ученикам - святым Апостолам о создании Церкви Христовой и ее правил... Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит. Наша Церковь не имеет никакого порока; горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в Богослужение и уставы той Церкви, которая есть «Столп и утверждение Истины» и о которой Сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее; то есть что она пребудет неизменно до конца - до второго пришествия. Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменения в правила и учение Святой Церкви есть ересь, желание создать свою особую церковь по измышлению разума человеческого, отступление от постановления Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, которая не простится вовек». Правило 2-е VI Вселенского собора гласит: «Никому да не будет позволено вышеозначенные правила апостолов, Вселенских и Поместных соборов и Святых Отцев изменяти или отменяти, или кроме предложенных правил принимати другие, с подложными надписаниями, составленные некиими людьми, дерзнувшими корчемствовати истиною». А Соборное деяние того же собора гласит: «Трижды анафема за всякое новшество и делание против церковного Предания и учения и правил Святых и блаженной памяти Отцев. Анафема, если кто нарушит какое-нибудь записанное или не записанное Предание Церкви». «Итак, «семь голов суть семь гор» - семь Вселенских соборов, - «на которых сидит жена» - святая Православная Церковь (Откр. 17, 9). Она не имеет нужды в прибавлении или отъятии, ибо число семь есть число полноты». (Иеромонах Павел (Лебедев)). Таким образом, мы должны понимать, что проведение Восьмого Вселенского собора является составной частью спецоперации по установлению нового мирового порядка, где действия разворачиваются в религиозном пространстве. Противостанем же всякому злому ухищрению, чтобы истинную и переданную святыми Отцами Православную веру нашу сохранить в чистоте, ничего не прибавляя и ничего не убавляя. [1] апостасия – отречение от Бога |
|
|
|
 21.3.2010, 4:57 21.3.2010, 4:57
Сообщение
#73
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Казачья исповедь Николая Келина – человек и народы в русской смуте
Казак-эмигрант Н.А. Келин пишет, что хотел осветить всю свою жизнь «в ином аспекте, чем это делали авторы многих эмигрантских воспоминаний». И ему это удалось – «Казачья исповедь» отвечает исконному значению сего «жанра» неожиданно емко. Читатель «исповеди» видит перелом российской истории иными глазами, становится причастным как личности автора, так и духу великой трагедии ХХ века, сломавшей судьбу «человека из народа». «Исповедь» Келина обнажает вечно возвращающиеся изломы и неожиданные грани Русской цивилизации, они нам и будут интересны в этом небольшом очерке. Завершая «Исповедь» мечтой о возрождении России, Келин много говорит об органичной вовлеченности казаков в империю не на правах периферийного воинского сословия, но как отдельного народа. Вспоминает безоблачное детство, когда «иногородний, то есть не природный казак, не считался полноценным человеком». Несмотря на все столкновения, казачьей свободе неизменно находилось свое законное место в «цветущей сложности», свойственной идее патриархальной империи. В крошечных «отвлечениях» книги Келина свобода ассоциируется со стариной: В степь шли отчаянные, буйные головы, у которых был только один закон – воля, а при приеме в свою ватагу они задавали только один вопрос: в Бога веруешь? Перекрестись!» Хотя автор с горечью упоминает, например, как князь Святополк-Мирский приказал закрыть все классические гимназии по всей Донской области: «Казакам нужны пики и шашки, а не книги». К чему могло привести «консервирование» подобной уже искусственной сословности? Тема казачьего национализма еще будет затронута здесь… Так или иначе, вскоре Николай Келин - далекий от политики молодой ветеран Первой мировой – видел, как обрушивается Восточный фронт, в хаосе стихийных расправ с офицерами крестьяне в шинелях бегут домой делить землю. Был пущен слух, что достанется она только лично присутствующим при дележе мужикам. Кто-то убеждает Келина: «Офицеры, спасаясь от солдат, бегут на Дон, а вам и бежать не надо – вы ведь с Дона…». На родине Келина встречает любимый дед, бывший для него с детства главным авторитетом. С подлинным благоговением относясь к образованию, столь мистически труднодоступному в «средневековой» Донской области, старик говорит внуку: «…Ленин, Троцкий… Один-то из них будто из Швейцарии приехал. Ну, а туда глупые люди не ехали…». Пока все было тихо. Молодежь часто собиралась в школе, разучивала «Интернационал» и ставила любительские спектакли. Однако фитиль социального конфликта догорал. Небеспочвенные слухи о грядущем переделе имущества заставили донцев пересмотреть свое привычное равнодушно-удаленное отношение к новой власти. Разносится клич: «Скоро будем сбивать эту сволочь. Довольно, повластвовали… Это не для казаков!» С недавних пор помрачневший дед Келина рад такому повороту событий: «Не пойдет он – пойду я! Говоришь, казаки на майдане шумят? Пойду!» Однако - «молодость брала свое, и мы шли громить «ваньков», как в области называли иногородних, которые на исконных, донских землях начали командовать казаками». На первых порах красных выбивают с легкостью с помощью «кольтов», «винчестеров» и отцовских шашек. В дикой неразберихе разгорающейся гражданской войны Келин в течение нескольких дней попадает из огня да в полымя. От смерти в руках красных его спасает артиллерийская фуражка – Келин не отказывается воевать на стороне коммунистов. По большому счету цветовые разделения разгорающейся смуты еще не играют для казаков ключевой роли. Сам автор занимает по-человечески понятную позицию, всемерно отстраняясь от «политики»… От честного слова в ожидании комиссара его спасает только стремительное изгнание красных, не успевших уже вернуться за свежеиспеченным военспецом. Он видит только «редкую цепь из бородатых дедов всех мастей», палящую по переплывающим реку красноармейцам, узнает бабкиного крестника Алешку Сазонова, огромного матроса Балтийского флота: Во рту у него был набит речной песок и вставлена каким-то хулиганом палка. Вот тебе, болезный, и раскулачил деда Осипа, - подумал я, искренне жалея загубленную молодую жизнь. Разгорающаяся большая война, стремительные рейды прорвавшейся за линию фронта казачьей конницы - «на Москву» по тылам красных. Келин все еще на Дону, волею судьбы не участвуя в войне. Автор «Исповеди» догнал на своем дончаке батарею только тогда, когда «уставшие казачьи части, которые уже нечем было пополнять, неудержимо откатывались к Дону, внутрь притихшей от ужаса области». Келин описывает Добровольческую армию как армию «русских мальчиков», офицеров: «…Бывшие студенты, бежавшие на юг от самосудов. Они не происходили из каких-то, как позже писали, привилегированных слоев русского общества». Однако, начавшись как социальный конфликт, гражданская война, вопреки лозунгам большевиков, перерастает фактически в войну межнациональную. Так, специфическая окраска вчерашнего «изгнания ваньков» становится содержанием конфликта «искони свободолюбивого народа» с Москвой. Прорвавшаяся к Провалью казачья конница в последнем прыжке раненного барса «накрошила там месиво тел» и захватили в плен мало подготовленную к боям дивизию - около 4 000 человек. - Да неужто, прости Господи, решаться… да под такой праздник?.. Однако кто-то, несмотря на Сочельник, уже решил судьбу этих парней. Один из казаков устанавливает поудобнее в задке дровней пулемет и укрепляет его. Второй, стоя рядом на коленях, зло кричит: - Не буду стрелять! Не бу-у-уду!.. - Да ты что, очумел? Не мы их, так они нас завтра, в твою душу!.. И вот тогда третий казак, ударив шапкой о землю, бросается к пулемету и, крестясь, с захлебом кричит: - Давай! Господи благослови! Давай… мать твою!.. Перед приходом наступающей Рабоче-крестьянской донские станицы и города охвачены чувством удалой обреченности. Страницы «Исповеди» Келина о них воскрешают некоторые эпизоды «Войны и мира» - перед приходом «двунадесяти языков» Наполеона. Бородатые старики, хозяева винных погребов, которых тут было немало, выкатывали бочки сами и предлагали уходившему войску Донскому: - Ии-и-их, чадушки, пейте родимые! Винцо доброе. Чаво ж, не будем отставлять супостатам – за вами вить «ваньки» идут, все выхлюстают… А потом вдруг, озлобившись: - А чаво ж вы, окаянные, тут на погибель нас покидаете? На кого? Вояки… Мы вот при Скобелеве, царство ему небесное… При взятии красными Ростова-на-Дону артиллерия открывает огонь, но конные части корпуса почему-то не принимают участия в бою – Ростов защищают добровольцы. «Да и к чему нам мужичий Ростов…». В этой связи Келин замечает, что Добровольческая армия обратилась к ростовскому купечеству и всем сбежавшимся сюда со всей пылающей России толстосумам за помощью, эта жадная сволочь бросила армии, кстати, бившейся и за них, жалкую подачку в несколько тысяч рублей. А потом упорно говорили, что тот же Буденный обложил город в пользу Красной армии контрибуцией в несколько миллионов, и эти толстосумы, перетрусив, заплатили все… Уже на черноморском береге Келин видит эвакуацию калмыцких частей белой армии… и еще одного признака «национализации» «прогрессивной» войны: Вас все равно не возьмут, господин сотник, - заявил мне пожилой калмык, щуря и без того узкие, степные глаза… берут только нас, калмыков. Нам нельзя оставаться, у нас у всех морда шибко кадетская – каждый узнает, - горько, но в то же время гордо улыбнулся сын степей, стоя у непривычного для него моря. Затем война бросила Келина к Врангелю. А после окончательного поражения «черного барона» - спасение от свирепой расправы – эмиграция в Турцию, поначалу совершенно нищую и безысходную эмиграцию. Наконец, мы находим Келина в Праге, где, благодаря организациям эмигрантов, он продолжает образование, прерванное еще перед Первой мировой. Учится на врача, живя в «Свободарне», общежитии для холостяков, как полагает - «на проценты с русского золота, которое сам помогал грузить в феврале 1917-го в Саратове». Сама комнатка была обклеена целым состоянием – банкнотами белой России. Под Константинополем, еще на пароходе, он обменял их на две турецкие лиры, о чем впоследствии сожалел. Здесь нет резона описывать в целом довольно счастливо сложившуюся впоследствии жизнь Келина в Чехословакии. Как сельский врач он вскоре владел «куренем», двумя автомобилями и т.п. Пропустив и воспоминания о встрече с Солоневичем, Кутеповым и другими представителями анти-большевицкого подполья в межвоенной Европе, мы видим автора «Исповеди» уже в гитлеровском протекторате Чехия и Моравия. Новыми властями он был приглашен в огромный зал отеля Палас. Тут было много казаков из всех войск, с Балкан прибыл генерал-лейтенант Абрамов – он когда-то командовал казачьим корпусом в Крыму. В кубанке с газырями прохаживался войсковой атаман генерал Науменко. В толпе я заметил командира «Волчьей сотни» Андрея Шкуро – грозу красных тылов… [и т.д. ] Свой отказ от мобилизации Келин мотивирует на основании решения Гитлера не призывать на военную службу граждан протектората «Чехия и Моравия». Казачья предприимчивость подействовала и на этот раз. Скандал же, учиненный в редакции самостийного «Казачьего вестника», напечатавшего стихи Келина без его согласия, мотивировался не столько неприязнью к учредителям издания и к высказываемым на его страницах идеям. Беспокойство было скорее прагматическое. Понимая невозможность, утопичность самостийной Казакии, видя и неминуемое поражение Рейха, Келин, все так же далекий от политики, интуитивно опасался за свою семью. Ведь членов редколлегии «Вестника» давно считали людьми «отпетыми». После взятия Праги Красной армией, несколько невольно-«самостийных» страниц стоили Келину шести месяцев в советской камере. Его спасло от концлагерей почти чудо - знакомство с одним из чекистов – по происхождению казаком из бедноты, «отредактировавшим» дело. Благоговейные страницы «Исповеди», описывающие детство, передают и привычные тогда казакам слова о людях, покидавших Донскую область: «Уехал в Россию». Уже в конце жизни из благополучной Чехословакии Келин, взяв с собой сына, отправляется в загадочный СССР самого начала хрущевской «оттепели». Келиным удается даже встретиться в Шолоховым. В состоявшейся беседе заканчивавший тогда «Поднятую целину» писатель обронил: «Вы знаете, я ведь казачий националист». Корехов http://bg-znanie.ru/article.php?nid=10064 |
|
|
|
 21.3.2010, 6:07 21.3.2010, 6:07
Сообщение
#74
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Последнее письмо Че Гевары родителям
1 апреля 1965 года, перед отправкой на «континентальную герилью», Че Гевара написал письма своим родителям, детям и Фиделю Кастро. Письмо родителям (в переводе Лаврецкого): Дорогие старики! Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь. Около десяти лет тому назад я написал Вам другое прощальное письмо. Насколько помню, тогда я сожалел, что не являюсь более хорошим солдатом и хорошим врачом; второе уже меня не интересует, солдат же из меня получился не столь уж плохой. В основном ничего не изменилось с тех пор, если не считать, что я стал значительно более сознательным, мой марксизм укоренился во мне и очистился. Считаю, что вооруженная борьба — единственный выход для народов, борющихся за свое освобождение, и я последователен в своих взглядах. Многие назовут меня искателем приключений, и это так. Но только я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту. Может быть, я попытаюсь сделать это в последний раз. Я не ищу такого конца, но он возможен, если логически исходить из расчета возможностей. И если так случится, примите мое последнее объятие. Я любил Вас крепко, только не умел выразить свою любовь. Я слишком прямолинеен в своих действиях и думаю, что иногда меня не понимали. К тому же было нелегко меня понять, но на этот раз — верьте мне. Итак, решимость, которую я совершенствовал с увлечением артиста, заставит действовать хилые ноги и уставшие лёгкие. Я добьюсь своего. Вспоминайте иногда этого скромного кондотьера XX века. Поцелуйте Селию, Роберто, Хуана-Мартина и Пототина, Беатрис, всех. Крепко обнимает Вас Ваш блудный и неисправимый сын Эрнесто. Эрнесто Че Гевара |
|
|
|
 22.3.2010, 16:05 22.3.2010, 16:05
Сообщение
#75
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Не по-советски
Четверть века назад началась перестройка. В марте 1985 года Политбюро единодушно выдвинуло Горбачева на пост генсека ЦК КПСС, после чего Михаил Сергеевич объявил соратникам о том, что надо двигаться вперед к светлому будущему. Почему в СССР хотели как в Китае, а вышло как всегда? В какую сумму обошелся развал Советского Союза? Кто был истинным автором идеи перестройки, а кто - ее могильщиком? Об этом спорят признанные "прорабы перестройки" - экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и бывший член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Вадим Медведев. С ОДНОЙ СТОРОНЫ Николай Рыжков: "Мне предлагали сделать то, что позднее сделал Егор Гайдар" - Николай Иванович, оправданна ли точка зрения, что истинным автором перестройки был Юрий Андропов? - В конце 1982 года Юрий Андропов пригласил меня, Михаила Сергеевича Горбачева и Владимира Ивановича Долгих в свой кабинет. Он начал разговор с того, что старая система экономики пробуксовывает, критических высказываний много, но толком никто ничего не предлагает. Он спросил: есть ли у нас видение обновления системы? Мы откровенно ответили, что системного плана преобразований у нас нет, но с участием экономистов и производственников мы готовы его разработать. Андропов был коммунистом до мозга костей, но прекрасно понимал, что обществу нужны изменения, и просил нас без спешки начать подготовку реформ. Я был в очень тесных деловых отношениях с Андроповым, регулярно с ним встречался и теперь прекрасно понимаю, что, если бы он был здоров, СССР неизбежно пошел бы по китайскому варианту реформ. Он, кстати, очень сильно интересовался преобразованиями в КНР. - Что вы планировали осуществить в рамках "второго издания" НЭПа? - Мы предполагали, что в советской экономике будет сочетание госрегулирования и рыночных отношений. Мы считали, что шестьдесят процентов предприятий будут государственными - оборонка, металлургия, естественные монополии, и сорок - акционерными и частными. В документах, подготовленных в период руководства Андропова и Черненко, мы также подчеркивали, что являемся противниками частной собственности на землю, за исключением приусадебных участков. Очевидно, что жесткая плановая экономика уже эффективно не работала, но полностью уничтожать ее мы не планировали. - Вы верили в жизнеспособность советской экономической системы и после того, как к власти пришел Михаил Горбачев? - Да. Мы выступали за сохранение социалистического общества, но в более совершенном виде. - Каковы были расходы бюджета СССР на оборону и спецслужбы во времена перестройки? - Если не считать расходы на МВД и КГБ, официально расходы бюджета на оборону составляли двенадцать процентов. - А неофициально? - Я вас уверяю: двенадцать процентов - это колоссальные расходы. - С этими грандиозными тратами мыслимо было надеяться на нормальную жизнь советского человека? - Мы прекрасно понимали, что расходы надо существенно уменьшать. Это входило в наши планы. Кстати, вы никогда не думали, почему Запад начал холодную войну против СССР сразу после разорительной для нас Великой Отечественной? - Одна из версий: чтобы подорвать экономическую систему социализма. Вы намекаете на то, что СССР надорвался в боях с империализмом? - А почему нет? После войны мы были абсолютно нищими и никому не могли угрожать. Расходы на оборону были большими, но нам не оставалось ничего иного, как вооружаться. - Или проводить политику нового мышления? - Да. Мы фактически признали, что Запад нас вымотал в годы холодной войны. Единственное, с чем они просчитались, - это эпопея со "звездными войнами". Нас упорно затаскивали с помощью этого блефа в очередные огромные траты, но мы вовремя сообразили, что за этим ничего серьезного нет. Они до сих пор ничего придумать не могут на этот счет. - Бывший секретарь ЦК Вадим Медведев говорит о регулярных перепалках с вами. О том, что вы цеплялись за план, а также затягивали осуществление реформы цен. Это соответствует действитель-ности? - Я думаю, что мы, наоборот, поспешили со многими преобразованиями. Но Вадим прав в том, что по многим вопросам мы не находили с ним и с Александром Яковлевым общего языка. В 1987 году споры о направлении и сроках реализации реформ стали резко обостряться. На заседаниях Политбюро дело чуть ли не до драки доходило. - Вы лично с кем "дрались"? - Я оказался меж двух огней. С одной стороны, спорил с радикалами - Медведевым, Яковлевым и Шеварднадзе, а с другой - с Лигачевым, который вообще не понимал, зачем нам нужны реформы. Горбачев же все более склонялся в сторону Яковлева и Медведева, которые предлагали из плановых показателей убрать госзаказ, строительство жилья, заводов, детских садов, хотя это все было прописано в решениях съезда партии. Я Вадиму говорил, что с него как с секретаря ЦК спрос небольшой, а с меня за эту самодеятельность, противоречащую решениям высшего органа партии, спросят. На одном из совещаний на даче в Волынском в 1987 году я в категорической форме сказал Горбачеву, что для осуществления радикальной реформы нам потребуются директивы нового съезда. И тут же выразил уверенность, что поддержки у генсека на съезде не будет. - Основная дискуссия крутилась вокруг вопроса о ценообразовании, то есть фактически об отпуске цен в свободное плавание? - Да, действительно. По сути, мне предлагали сделать то, что позднее сделал Егор Гайдар. Я уверял своих противников, что это вызовет волну возмущения в обществе. В итоге дискуссия переместилась в Политбюро, и там пошло, что называется, стенка на стенку. Я, Слюньков, Зайков, Никонов, Воротников - с одной стороны. Напротив нас - Медведев, Яковлев, Шеварднадзе. Разговор был, честно говоря, просто неприличным. Дошло чуть ли не до крика и мата. Невозможная обстановка. Я сам еле сдерживался, а может быть, и не сдержался пару раз. Все разгорячились. Это было в четверг - традиционный день заседаний Политбюро. Я всю ночь после этого не спал и думал: "Боже мой, что творится?" На следующее утро позвонил Горбачеву с просьбой о встрече один на один. Я понимал, что больше в таком стиле работу вести нельзя. Ведь на Политбюро приглашают людей со стороны. Экспертов, ученых. Они приходят с этих заседаний и рассказывают о том, что в Политбюро, видимо, просто сошли с ума. - Горбачев согласился на встречу? - Да. Хотя по субботам он в отличие от меня не работал, но меня он принял в этот день в Кремле. Я сказал ему теперь уже спокойно, что категорически против предложений, высказанных на Политбюро, что он стал прислушиваться к мнению людей, которые не являются компетентными специалистами и, похоже, даже свои книжки по экономике не читали. Сегодня вы, сказал я ему, должны решить: или принимаете мою концепцию реформ, или я ухожу с поста председателя правительства и вы без меня продолжаете выполнять тот план, который я считаю смертельным для страны. Горбачев со мной согласился. Я пожал ему руку и ушел. Дальше мы проводили уже мою линию. - Но ведь и она не спасла страну. Дефицит приобрел космический масштаб и вызывал ропот даже в столице. - Я абсолютно убежден, что начиная с 1990 года дефицит во многих случаях был результатом саботажа. Как-то звонит мне Горбачев, просит зайти к нему в кабинет в Кремле. В приемной сидит мой заместитель по сельскому хозяйству. Мы вместе с ним заходим к Горбачеву. Там уже находился Ельцин. Горбачев объясняет, что они с Ельциным обсуждают проблему дефицита табачных изделий в Москве. Мол, стоит вой в столице. Я объяснил, что почему-то из 28 табачных фабрик, подчиненных РСФСР, 26 одномоментно были поставлены на ремонт. И тут же спросил у Ельцина: "Борис Николаевич, кто принял такое решение"? Он ответил, что не он, явно намекая на нас. Я заметил ему, что с претензиями он обращается не по адресу. У нас своих грехов выше крыши. Чужих нам не надо. - Но подозрения у вас остались? - Конечно, это было его решение. И таких противоправных действий было достаточно. Я не говорю, что у нас не было ошибок. Злую шутку с нами сыграло кооперативное движение, когда пошел неконтролируемый рост зарплаты. Деньги появились, а товарная масса отставала от потребностей. - Насколько соответствует действительности тот факт, что в 1985 году у СССР не было внешних долгов? - Они были. Мы регулярно брали кредиты и всегда аккуратно их возвращали. У нас была безупречная репутация в этом смысле. - Но в итоге СССР набрал 70 миллиардов долларов за 6 лет перестройки. - По оценкам специалистов, госдолг при мне был равен 35 миллиардам долларов. Для такой страны, как СССР, этот долг был мизерный. Львиная доля из 70 миллиардов занималась правительством, когда я уже был в отставке. Страна стала неуправляемой, и кредиты принялись хватать как горячие пирожки. Кроме того, не забывайте, что нам должны были в два раза больше, чем мы сами. - Вы верили, что Советскому Союзу вернут хоть что-то из этой "братской помощи"? - Далеко не во всех случаях. Но я прекрасно понимал, что нам выгодно в политическом плане держать некоторые страны на кредитном крючке. Они всегда помнили, что должны нам. До сих пор не понимаю, зачем мы списали 10 миллиардов долларов Ираку и долги Индии. В девяностые годы миллиардные долги СССР можно было купить за копейки и сделать неплохой бизнес на этом. - Вопрос к вам как к председателю Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям: КПСС была естественной монополией? - После отставки я анализировал время перестройки. Я считал и считаю, что партию не надо было разрушать. Но ее следовало серьезно модернизировать. По моему глубокому убеждению, КПСС должна была отойти от вопросов оперативного руководства страной. Я не могу взять в толк: что это за партия, состоявшая из более чем 15 миллионов членов, на защиту которой на улицу не вышел ни один коммунист после ГКЧП? - Так почему же не удалось повторить китайское экономическое чудо? - Потому что нам не дали это сделать. Нужно было восемь спокойных лет. Страна не была готова к радикальным реформам. Не было соответствующих рыночных институтов и инфраструктуры. Все кричат об этом до сих пор. Уж какая там пресловутая программа "500 дней"! - Вы верите в успех модернизации? - Ее нужно проводить. Слава богу, с начала перестройки прошло 25 лет. Мы набили себе шишки. У нового поколения политиков есть на что опираться. Даже отрицательный опыт - это хороший опыт. Но я поверю в шансы этой, можно сказать, второй перестройки только тогда, когда под эти планы будет подведен определенный фундамент и мне четко объяснят, что конкретно стоит за словом "модернизация". С ДРУГОЙ СТОРОНЫ Вадим Медведев: "В ходе модернизации, вероятно, придется повторять то, что уже было пройдено нами во второй половине 80-х годов" - Вадим Андреевич, ваше пророчество о том, что перестройка - это наше прошлое, настоящее и будущее, сбывается? - Конечно, потому что многие идеи не были осуществлены в период перестройки, а потом оказались напрочь забыты. За пять лет воплотить в жизнь все планы было невозможно. Перестройка была прервана ее противниками в наихудшей форме - путем развала страны и последовавшего экономического и социального беспредела. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что в ходе модернизации, вероятно, придется повторять то, что уже было пройдено нами во второй половине 80-х годов. Ну, например, той же гласности тогда было явно больше. - Есть разные мнения о том, когда появился термин "перестройка". Некоторые утверждают, что еще при Андропове. - Нет никаких оснований связывать термин "перестройка" с Андроповым. Может быть, кто-то такое слово и произносил в те годы, но в него не вкладывалось то содержание, которое оно приобрело при Горбачеве. - Перестройка проходила в условиях конфликта всех со всеми в высшем руководстве. Не думаете ли вы, что идею погубил принцип коллективного руководства? - Думаю, что коллективное руководство нам было тогда только на пользу. Оно помогало в выработке курса и выяснении тех проблем, с которыми мы можем столкнуться. Общий курс на демократизацию и создание рыночной экономики не менялся. В сопоставлении мнений он только углублялся. Уровень власти у Горбачева был достаточен для того, чтобы выдерживать общую линию. Может быть, была какая-то доля идеализма в недооценке опасности возникающих разногласий. Это проявилось, например, при обсуждении ситуации в связи с письмом Нины Андреевой. Лигачев, имевший прямое отношение к появлению этого письма, отделался лишь легким испугом. При обсуждении этого вопроса на Политбюро его фамилия даже не была озвучена. Ранее в связи с выступлением Ельцина на октябрьском пленуме 1987 года Горбачев тоже ограничился полумерами. Ельцин был оставлен в составе ЦК, стал министром. Лишь в случае с приземлением Руста на Красной площади были приняты жесткие персональные меры. Возвращаясь вместе с Горбачевым из Берлина со встречи с лидерами соцстран, мы с Шеварднадзе высказались за то, чтобы понесли ответственность руководители, даже если они прямо не имели отношения к инциденту. На Политбюро было принято решение заменить Соколова на посту министра обороны, хотя он был хорошим военачальником. Правда, замена его на Язова оказалась неудачной. Но это уже другая история. - Николай Рыжков рассказал об одном драматическом заседании Политбюро в 1987 году, после которого он встретился с Горбачевым и попросил его об отставке, если генсек не прислушается к его подходу к экономической реформе. - Горбачев полностью доверял Рыжкову, ценил его. И сейчас, кстати, ценит. Что касается этой истории... В процессе подготовки реформы действительно возникали серьезные дискуссии между экономистами, к числу которых я отношу и себя, и руководителями Совмина. Но вопрос об отставке правительства не возникал. - То есть Горбачев не перестал поддерживать реформаторское крыло Политбюро и не переходил на сторону апологетов планового хозяйства? - Это чьи-то фантазии. А вот что было. Перед пленумом ЦК по экономической реформе в Волынском состоялась решающая встреча Горбачева с Рыжковым, Слюньковым, Яковлевым и мной. Был найден компромисс: контрольные цифры для предприятий, спускаемые сверху, являются ориентиром и не должны иметь директивного характера. С этим Рыжков скрепя сердце согласился. Но в то же время перечень обязательных заданий предприятиям пополнился показателем прибыли. Хотя от главы правительства так и не было ответа на простой вопрос: если сами предприятия будут заинтересованы в прибыли, зачем ее планировать? - Во время перестройки вы занимались историей пакта Молотова - Риббентропа, посещали Латвию, видели настроения людей. Если бы в свое время Сталин не присоединил Прибалтику, увеличились бы шансы на сохранение СССР? - Возможно, что события в Прибалтике стали одним из катализаторов расшатывания, а затем и распада Союза. Ельцин с самого начала встал на поддержку сепаратистских сил в СССР. Они в свою очередь всячески приветствовали суверенизацию России, прибалты были яростными ее сторонниками. Самой труднообъяснимой стала перемена настроений на Украине. При Щербицком ситуация там не вызывала серьезных опасений. А потом произошел поворот в настроениях в пользу самостоятельности. Я думаю, свою роль сыграло лучшее, чем в России, продовольственное положение на Украине в 1990-1991 годах. - Николай Рыжков считает, что дефицит товаров в ряде случаев имел искусственное происхождение. Это так? - Тут все просто: правительство утратило контроль за наличным денежным оборотом. В 1990 году рост денежной массы составил около 20-25 процентов. И хотя прирост производства товаров народного потребления был максимальный - около 8 процентов, рынок оказался дезорганизованным. Так что дело не в происках внутренних или внешних врагов. Если саботаж и был, то он заключался в другом - в провоцировании забастовок. В угольной промышленности проблемы можно было спокойно решить обычными методами. Совершенно очевидно, что это была сознательная линия российского руководства на разжигание конфликтов в проблемных отраслях. - Есть различные данные о расходах позднего СССР на оборону и спецслужбы: от 10 до 60 процентов бюджета. Какие цифры ближе к истине? - Насчет спецслужб не знаю. Такие данные не фигурировали даже в Полит-бюро. А что касается военных расходов, то примерно 25 миллиардов рублей шло непосредственно на содержание армии и флота из 400-миллиардного бюджета. Однако основная часть военных расходов проводилась по другим статьям. В 1989 году была опубликована, как было объявлено, полная цифра военного бюджета - примерно 75-80 миллиардов рублей. Наверное, и она являлась заниженной. Я сужу об этом по тому, что бюджет Академии наук составлял 25 миллиардов рублей. Какие траты в обычном академическом институте? Зарплата? Но это же копейки. Львиную долю академического бюджета составляли расходы, которые так или иначе были связаны с оборонными нуждами. На мой взгляд, это около 100 миллиардов рублей, или примерно четверть всего бюджета страны. - Но все равно это было намного меньше трат США на оборону. Как мы умудрялись военный паритет соблюдать со всем НАТО и Китаем заодно за такие деньги? - В какой-то мере за счет низкой оплаты труда военнослужащих, в какой-то - за счет низких цен на продукцию военного назначения, с которой не взимался налог с оборота. Это существенно удешевляло ее. - Вы как-то написали, что "во многом наши нынешние беды и передряги связаны с отсутствием необходимого для нормального общества демократического механизма, который в свою очередь немыслим без системы серьезных политических партий". Это беда из разряда вечных? - У меня еще сохраняется надежда, что в ближайшем будущем с этой бедой мы справимся. В конце концов, идея о формировании правительства на основе парламентского большинства уже была осуществлена в годы перестройки. Можно напомнить, что состав правительства абсолютно открыто утверждался Верховным Советом. Три предложения премьера Рыжкова по министрам были отвергнуты депутатами в результате голосования. - Верите ли вы в успех модернизации в России? - В успех "консервативной модернизации" я не верю. Модернизация по определению не может быть консервативной. Новые демократические перемены давно у нас назрели. Itogi.ru |
|
|
|
 25.3.2010, 0:55 25.3.2010, 0:55
Сообщение
#76
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Почему развалился Союз?
Е.Примаков о мифах и стереотипах современной политики "Вряд ли, кто-либо из присутствующих удовлетворен развитием мировой ситуации", - так начал свое выступление на презентации собственной книги "Мир без России?" Евгений Примаков. В издательстве "Российская газета" вышла в свет книга президента Торгово-промышленной палаты РФ и на ее презентацию собрались политики, журналисты, сенаторы, писатели. Не всем хватило места в зале – главный думский "международник" Константин Косачев не побрезговав, уселся на пол, что вызывало много эмоциональных реакций на протяжении всего мероприятия. Е.Примаков всем нам известен, как политик, ученый, директор двух исследовательских центров Академии наук СССР - Института востоковедения и Института мировой экономики и международных отношений. Мы знаем, что он был главой Службы внешней разведки, МИД, а также председателем правительства РФ. С высоты жизненного опыта экс-премьер рассуждает о состоянии политической системы, мифах и стереотипах современного общества, о месте России в мире, и о других глобальных проблемах. Е.Примаков перечислил мифические стереотипы, характерные для современного мира. На Западе убеждены, что СССР – супердержава, переставшая существовать. Это неправильное представление, считает экс-премьер. СССР перестал существовать не потому, что проиграл холодную войну, разъясняет Е.Примаков, а главным образом, по причине наличия внутренних противоречий. О каких-таких внутренних противоречиях идет речь? Несмотря на то, что Советский Союз назывался Союзом, до конца не было выдержано его федеративное существо, рассуждает Е. Примаков. Кроме того, административно-командная система экономики СССР не давала возможности абсорбировать результаты научно-технический революции. Е.Примаков глубоко сожалеет о распаде Великой державы – это был не единственный вариант ее дальнейшей судьбы. Экс-премьер никогда не поймет М.Горбачева, который в 1991 году "не отдал приказ командующему Минского военного округа отправить вооруженную бригаду в Беловежскую Пущу, где в это время трое известных всем персонажей решали судьбу Советского Союза". Аргументируя точку зрения, что страна не проигрывала холодной войны, Е.Примаков напомнил, что Россия сохранила ракетно-ядерный потенциал. Мифом называет экс-премьер и мнение о том, что в настоящий момент осуществляется переход от двухполярной системы к однополярному миру. Это не так, убежден автор книги. О том, что теперь существует многополярный мир, знают и США, прекрасно осознающие существующие реалии. Неравномерность экономического развития приводит к тому, что вырываются вперед такие экономики как Китай и Индия, рассуждает Е.Примаков. Стремительный рост ВВП Китая и Индии доказывает многополярность существующего мира, полагает экс-премьер. Кроме того, американская операция в Ираке была осуществлена в момент игры на однополярный мир. "Это полный провал", - резюмирует Е.Примаков. Следующим мифом, по мнению президента ТПП, является западное мнение о том, что следование России за США, констатируемое в начале 90-х, адекватное ее проигрышу в холодной войне - естественная конфигурация на длительный период. Это неверно, считает Е.Примаков. "Мы не будем повторять вторую половину 90-х, когда мы любыми путями пытались пробраться в цивилизованный мир", - уверен экс-глава российского правительства. Не только Запад грешит стереотипным мышлением. По мнению Е.Примакова, российская убежденность в том, что мир после поражения США в Ираке не изменился, не справедлива. Изменения произошли, рассуждает Е.Примаков. Соединенные Штаты, переставая верить в однополярный мир, решили занять доминирующее положение в многополярной системе Вашингтон вознамерился установить многополярную гегемонию, но им ее не достичь – мир слишком неравномерен, уверен экс-премьер. В настоящий момент США делают ставку на безоговорочную поддержу союзников и придумывают иранскую угрозу для Европы, думает Е.Примаков, касаясь размещения системы ПРО в Восточной Европе. "Это не НАТОвский эшелон, а чисто американский", подчеркивает экс-премьер. Да и само расширение НАТО диктуются намерением США укрепить свои позиции в этом союзе, надеясь на новых участников северо-атлантического альянса, продолжает тему автор "Мира без России". Е.Примаков предупреждает: США – не "бумажный тигр"! Мир разуверился в силе США, когда Вашингтон не поддержал Грузию в августовском конфликте, масла в огонь добавил и финансовый кризис, пошатнувший положение великой державы в качестве финансового центра. Нет, США - не "бумажный тигр" и от этой риторики надо отказаться. Экс-премьер предупреждает: исключительная ориентация на ЕС ошибочна! Внешняя политика, подразумевающая курс на Европу, неразумна. "Европа не поддержала нас в газовом споре с Украиной", - говорит Е.Примаков. И этот момент стоит учитывать при формировании дальнейшей политики. Ставит под сомнение автор книги и мнение о том, что СНГ надежный партнер и тыл России. "За это еще надо бороться, - считает Е.Примаков. - Пока это не так. Страны СНГ – должны быть нашими равноправными партнерами". Что касается нового президента США, Барака Обамы, то неверно считать, что он является продолжателем линии Джорджа Буша. "Новая сила образуется в США, - рассуждает экс-премьер. - Нужно вступать в переговоры". От критики окружения Б.Обамы автор книги призывает отказаться: "среди приближенных американского президента нет ни одного неоконсерватора – от них Б. Обама предпочитает держаться подальше". "Я убежден, что Россия далека от того, чтобы утверждать свое значение в мировых делах через конфронтацию с кем бы то ни было. Ошибаются те политики на Западе, которые исходят из такого видения, - говорит на страницах своей книги Е.Примаков. - Вместе с тем лишь политической близорукостью можно объяснить готовность списать Россию из числа великих держав, недооценивать ее потенциал, динамику, перспективы развития". 23.01.2009 http://www.prime-tass.ru/news/articles/-20...702EE573%7D.uif |
|
|
|
 27.3.2010, 0:47 27.3.2010, 0:47
Сообщение
#77
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Из истории ненецкого народа 30—40-х годов XIX в.
(Движение Ваули Пиеттомина) Среди социальных движений малых северных народностей первой половины XIX в. на первом месте по интенсивности и значимости стоит движение 1830—1840 гг., связанное с именем его руководителя — Ваули Пиеттомина из ненецкого рода ненянг. Имя Ваули вошло в историю северных народностей и в памяти народных масс Севера дожило до наших дней, как имя руководителя ненецко-хантейской бедноты в борьбе против угнетателей и экоплоататоров туземных князьков, русских чиновников, ненецких и хантейских старшин, богатых оленеводов и русских торговцев и купцов. Дореволюционная литература о Ваули представляет собой ряд отдельных небольших заметок, авторы которых рассматривают движение Ваули с великодержавно-шовинистической точки зрения. Так, например, Н. Абрамов — яркий образчик провинциального доморощенного историка середины XIX в., в своем «Описании Березовского края» 1, характеризуя движение, называет Ваули «возмутителем народного спокойствия самоед» и расценивает выступление Ваули, как разбойничье. Пересказ событий 1839—1841 гг. занимает у Абрамова всего 2 странички и дает только хронологическую канву событий. Такая же чиновничье-великодержавная оценка движения Ваули дается в заметке «Самоедский праздник в Обдорске по случаю раздачи величайших наград» 2. В этой заметке содержится, главным образом, ряд фактических данных об отзвуках движения Ваули в 1856 г. Сам Ваули, его сподвижники 40-х годов и последователи 1856 г., рисуются просто грабителями, а успех и популярность Ваули «объясняется» страхом перед силой его шаманства. Несколько отошел от оценки движения Ваули, как разбойничьего, Барш в статье «Обдорский возмутитель» 3. Статья эта написана, как говорит сам Барш, по рассказам, так как дела о Ваули в архиве Тобольского губернского суда по его запросу не нашли. В статье этой перепутаны даже хронологические даты, анализа событий совершенно не дано. Автор все движение связывает с фигурой самого Ваули, о котором говорит, что «это была, действительно, весьма замечательная между дикарями личность». П. Славин в статье «Самоеды-грабители в Обдорском крае» 4 в основном повторяет данные Барша, а, кроме того, использует дело Тобольского губернского архива «О самоедах, производящих грабежи в Обдорском отделении» для краткого очерка отзвуков движения Пиеттомина в 1856 г. Такова основная, крайне бедная дореволюционная литература о Ваули. [152] Кроме того о нем и о движении, организатором которого он был, разбросан ряд мелких заметок во всех дореволюционных работах по истории западной Сибири: у Шашкова «Сибирские инородцы в XIX в.», у Житкова «Полуостров Я-мал» и в ряде других. В современной советской литературе нет ни одной работы, посвященной этому наиболее значительному движению ненецко-хантейской бедноты в первой половине XIX века. Даже в работе, вышедшей в 1937 г., «Очерк истории народов Северо-Западной Сибири» автор ее — Карцев, говоря об этом движении, принужден ограничиться использованием тех немногих статей, о которых упоминается выше. Н. Абрамов и Барш для своих статей использовали рассказы современников. Однако тексты сказаний и легенд о Ваули, существующие на севере и до настоящих дней, до революции не записывались. Несмотря на тщательные розыски, не найдены до сих пор архивные материалы о движении Ваули, которые должны были иметься в Тобольском архиве. Есть данные, что царские чиновники при одной из очередных варварских «чисток» архивных материалов уничтожили дела об этом движении 5. Поэтому большую научную ценность представляют публикуемые ниже материалы о движении Ваули, из недавно обнаруженного в Омском историческом архиве дела «Главного управления Западной Сибири», № 1960 за 1841 г. «О возмущении остяков Березовского края самоедом Ваули Пиеттоминым». Подходя к их оценке, нужно помнить, что это официальные материалы царских чиновников, что события освещаются ими односторонне и в общем и даже в деталях с точки зрения сибирской администрации николаевских времен. Однако, эти материалы дают для исследователя ряд новых данных как о самом Ваули, о его биографии, так и о движении, дают точную хронологическую канву событий и часто против воли составителей — царских чиновников проливают свет на отдельные факты этого наиболее значительного социального движения в Северо-Западной Сибири в первой половине XIX века. Крайняя бледность показаний самого Ваули не покажется странной тому, кто знаком с показаниями Пугачева и других вождей народных движений в прошлом. Они, естественно, избегали давать подробные объяснения, которые могли только еще более отяготить их положение перед царским судом. В свою очередь царских чиновников не интересовали ни мотивы, ни обстановка движений. Их допросы сводились к тому, чтобы выколотить из подследственного показания, непосредственно уличающие его в «противозаконных поступках». Поэтому показания Ваули мало вскрывают социальную суть движения, которое он возглавлял. Несомненно, однако, что социальная сущность движения Ваули гораздо сложнее, чем ее изображает буржуазная шовинистическая историография, которая сводила все дело к примитивному разбою. Начавшаяся с первых же дней завоевания Сибири хищническая эксплоатация северных народностей царской администрацией, купечеством, промышленниками разных сортов довела малые северные народности до полного обнищания. Правительство, опираясь на верхушку населения — на князьков и старшин, рассматривало широкие массы северных народностей только как объект для выколачивания ясака и других поборов. Вот характерные цифры. В 1763 г. в Березовском крае было 8003 ненцев и хантэ, подлежавших обложению. Они выплачивали ясак пушниной по оценке в 6 876 руб. 90 к. В 1829 г. по переписи ясачной комиссии 6 в Березовском [153] округе было подлежащих обложению 10 993 души (8 421 хантэ и 2 572 ненца). Население, подлежащее обложению, выросло, как видим, приблизительно на 25%. К 1829 г. ненцы и хантэ Березовского округа платили ясака на ту же сумму и 44-копеечного сбора по указам 1797 г. и 1806 г. 4 722 руб. 52 коп. и выполняли натуральных повинностей по оценке на 12 723 руб. Комиссия же установила подати в размере 20 212 руб. 35 к., не считая повинностей. Таким образом обложение увеличилось против 1763 г. почти на 300%. И это, несмотря на то, что общее экономическое положение северных народностей к 30-м годам XIX в. значительно ухудшилось. Тобольская казенная палата в 1828 г. заявляла, что «инородцы тогда (т. е. в 1763 г.) были гораздо зажиточнее нежели в нынешнее время». На самом деле сумма обложения была гораздо выше, чем ее показывают официальные цифры, так как оценка мехов, сдаваемых в ясак, была крайне низкой и, кроме того, приемщики мехов прибегали к целому ряду мошенничеств и в оценке, и в записях налагаемого ясака. К этому нужно прибавить поборы со стороны духовенства, прибегавшего к чисто провокационным приемам для выколачивания из порабощенных народностей всякого рода штрафов за нарушение церковных правил (несоблюдение постов и проч.). В годы плохого улова рыб и добычи зверя, особенно в начале XIX в., когда, в результате хищнических способов лова и сильных лесных пожаров, погибли лучшие звероловные места, обнищавшим ненецко-хантэйским массам приходилось для уплаты ясака обращаться за ссудой или к «своим» богачам или же к русским купцам и промышленникам. Ростовщичество процветало на Севере вплоть до 1917 года. В залог за взятую небольшую сумму ненцы и хантэ отдавали лучшие угодья. Колоссальные проценты нарастали на взятую сумму и на проценты, и в результате население запутывалось в долгах. Ядринцев в своей работе «Сибирь, как колония» приводит характерный факт, как местные жители в 1688 г. заложили угодья за 1 р. 50 к. и 135 лет до 1823 г. не могли их выкупить. Пользуясь покровительством властей, русские купцы и промышленники брали в долгосрочную аренду, по баснословно низким ценам, лучшие угодья и фактически становились настоящими хозяевами их. Практиковался и прямой открытый захват русскими промышленниками и купцами лучших угодий. Теряя лучшие земли, народности Севера одновременно подвергались усиленной торговой эксплоатации. Им продавались наиболее плохие, часто бракованные товары по баснословно высоким ценам. В этой грабительской торговле участвовало в качестве контрагентов и местное национальное кулачество, а также и духовенство. Обдираемые царскими чиновниками, купцами, попами и промышленниками, хантэ-ненецкие массы попадали в кабалу к своему национальному кулачеству, представители которого занимали все низшие административные посты и были посредниками между высшей русской администрацией и широкими массами. Массы дошли до крайнего обнищания в то время, как верхушки во главе с князьями быстро обогащались. Князья (Тайшин, Артанзиев и другие) были верными слугами царизма, от которого они получали всевозможные награды и подачки. Именно царизм помогал им властвовать и эксплоатировать широкие массы ненецкого и хантэйского народов. Нужно к этому добавить полное юридическое бесправие ненца, хантэ и манси в царской России. Царское правительство считалось только с верхушкой — князцами, богатыми оленеводами, старшинами. Бедняк ненец или хантэ в глазах самого мелкого чиновника был «собакой», «дикарем». Сибирская администрация от верху до низу была взяточниками, казнокрадами и насильниками. Из года в год повторялись голодовки, при которых бывали случаи людоедства, население косили болезни. Общеизвестен много раз обсуждавшийся вопрос о так называемом угасании северных народностей. Северные народности, ныне возрождающиеся под мудрым водительством партии Ленина — Сталина, в старой царской России обречены были на вымирание. [154] 30-е годы XIX в. были годами еще большего увеличения податных тягот, усиленного отбирания угодий, роста эксплоатации, невероятного двойного гнета — социального и национального, против которого и было направлено возглавленное Ваули Пиеттоминым движение. Всесторонняя оценка этого движения требует еще дальнейшего углубленного исследования. Многое в нем еще неясно: роль шаманства, взаимные отношения между хантэ и ненцами, отношение данного движения к предыдущим выступлениям ненцев в XVII—XVIII вв. и т. д. Публикуемые материалы при всей их неполноте и односторонности, однако свидетельствуют, что возглавляемое Ваули движение было народным движением, направленным именно против этого социального и национального гнета. В нем несомненно есть элементы классовой борьбы. Документы говорят как о Ваули, так и об участниках его отрядов, как о бедняках «не имеющих дневного пропитания». Один из наиболее близких Ваули сподвижников Менчеда Санин «ясаку от роду не платил по случаю бедноты». О широкой поддержке Ваули хантэ-ненецкой беднотой свидетельствует значительная численность его отрядов, достигавших до 400 человек. Ваули объединил эти обездоленные массы вокруг самых насущных требований (снижения ясака, снижения цен на товары), направленных против ига безграничной колониальной эксплоатации. Как указывает публикуемая «Краткая выписка», Ваули распустил слух, что он в Березовском крае понизит цены на все русские товары, даже на отпускаемый из казны хлеб, и что «инородцы будут платить подати вместо двух песцов одного... и посылал в Обдорск нарочного, чтобы до его туда прибытия инородцы не смели вносить ясака, а купцы торговать». В то же время движение Ваули было направлено против местных социальных верхов. Когда, как проговаривается составлявший «Краткую выписку» чиновник, «увеличилось народное к нему доверие», Ваули стал делать нападения на богатых ненецких и хантэйских старшин, владельцев сотен оленей, отбирая у них оленей, муку и деля его среди бедняков. В течение всего 1840 г. власть над ненцами и хантэ была фактически не в руках князя Тайшина, ставленника царской власти, вымогателя и насильника 7, и богатых старшин, а в руках Ваули. Ваули смещал старшин и если бы не помощь царской администрации, то Тайшин был бы смещен. Ваули не ставил однако задачи уничтожения власти князя и старшин вообще. На место ненавистного князя Тайшина он намерен был поставить князя хантэ — Япту Мурзина — богатого оленевода, искавшего дружбы с Ваули с провокационной целью, чтобы заманить его в ловушку, организованную князем Тайшиным и царской администрацией. Легкой ликвидации движения Ваули содействовала и провокационная работа русского торговца Нечаевского. Схваченный с помощью провокации в Обдорске, Ваули был отправлен сначала в Березов, затем в Тобольск и предан военному суду, который приговорил его к ссылке в каторжные работы. Генерал-губернатор Западной Сибири утвердил приговор и предписал отправить Ваули для отбывания каторжных работ в Восточную Сибирь. Части участников движения удалось скрыться, и спустя много лет после поимки Ваули на Севере снова вспыхивает волнение, которое однако не приобрело широких размеров. В 1855 г. родственники ближайшего друга Ваули — Мейри Ходина, также сосланного в каторжные работы, — Иани Ходин, сподвижник Ваули, Тумбы, Няру, Оли, Хорумы и Нюмдэ Ходины вместе с другими ненцами и хантэ организовали отряд. Во главе отряда стал Иани. Отряд стал делать нападения на богатых оленеводов, на старшин. [155] Снова в тундре началось волнение. Ненецкий старшина Тэпкэ Ванюзе (Ванхозе) обратился за помощью к царской администрации в Обдорске 8. Призрак возвращения Ваули встревожил и местных старшин и царскую администрацию. Между властями от Петербурга сверху и до Березова снизу началась оживленная переписка о ликвидации волнения. Посылать в безлюдную, отдаленную тундру солдат или казаков было рискованно, поэтому разгромить отряд Иани было поручено князю Тайшину, а Тайшин перепоручил это дело Ванюзе, наиболее заинтересованному в усмирении подчиненной ему бедноты. С помощью старшин и наиболее богатых кулаков-оленеводов участники отряда Иани во главе с ним самим были схвачены. При поимке им повредили в суставах пальцы рук, чтобы лишить «силы шаманства». Затем арестованные были доставлены для допросов в Березовский земский суд. К сожалению, до настоящего времени не обнаружены архивные материалы, сообщающие об их дальнейшей судьбе. Очевидно их ждала, как и участников движения Ваули, каторга и поселение в Восточной Сибири. Царская администрация и кулацкая верхушка праздновали легкую победу. Однако ненецкая и хантейская беднота не верила, что Ваули погиб и ждала его возвращения. В 1883 г., через 40 с лишком лет после движения Ваули, в Обдорске распространились слухи, что на Обдорск идет Ваули или его потомок 9. Слухи эти вызвали настоящую панику среди обдорских торговцев. Память о Ваули дожила до наших дней, до дней возрождения к новой счастливой жизни всех народностей Советского Союза, когда «народы-парии, народы-рабы впервые в истории человечества поднялись до положения народов, действительно свободных и действительно равных, заражая своим примером угнетенные народы всего мира» (Сталин). Публикуемые материалы подготовлены к печати коллективом работников Омского Исторического Архива под редакцией К. Е. Розанчугова. К. Розанчугов. -------------------------------------------------------------------------------- «Краткая выписка из дела комиссии, учрежденной в Березовском крае о возмущении инородцев Обдорского края» 12 генваря 1839 года Обдорской волости ясачной князь Иван Тайшин с самоедами и остяками, составя приговор о том, что самоеды сей же волости Ваули Пиеттомин и Магири Вайтин с их сообщниками более семи лет делают у них дневные грабежи, просили обдорского заседателя Соколова представить Пиеттомина и Вайтина к высшему правительству для поступления с ними по законам и удаления их на поселение. Пиеттомин и Вайтин сознались Соколову, что они человеками с десятью своих товарищей, быв вынуждены бедностью, единственно для собственного пропитания, точно обкрадывали и грабили самоедов и остяков, но никого не убивали. После этого сознания, без всякого производства следствия, Березовский окружной суд полагал: наказав Пиеттомина и Вайтина кнутом, сослать на год в каторжную работу и потом оставить их на поселении. А губернский суд, приняв в уважение, что во 1-х преступники при следствии чистосердечно сознались в воровстве и грабеже, во 2-х, делали они воровства и грабежи для того, чтоб им и другим бедным самоедам не лишиться жизни при неулове зверя и невозможности по дальнему расстоянию мест их жительств быть в Обдорском отделении [156] для взятия в долг муки, в 3-х, их роду свойственно незнание законов, преследующих воровства и грабежи и, наконец, в 4-х, поступки их были в продолжение 10 лет терпимы, и общество желает токмо удалить их от себя, — на основании 105, 114, 129 пун. 1 и 471 ст. 15 тома, определил: дав Пиеттомину и Вайтину, при полиции, по 20 ударов плетей, отдалить их, согласно с 64 статьею тома, в другое место по распоряжению губернского начальства. Приговор этот, утвержденный губернатором Талызиным, был препровожден губернским правлением в Березовский окружной суд, для надлежащего исполнения и с тем, чтоб о переселении преступников было донесено к сведению Тобольской казенной палаты. После чего Пиеттомин и Вайтин были при березовской градской полиции наказаны плетьми и, по распоряжению тамошнего окружного суда, отправлены к сургутскому отдельному заседателю Ширяеву, который 10 июня его уведомил, что те самоеды причислены им (Ширяевым) в Парчинскую волость, и ее старшине предписано наблюдать, чтобы они не отлучались в прежнее свое жительство, и что об этом причислении доведено до сведения и казенной палаты. А 19 сентября 1839 же года Ширяев донес Березовскому земскому суду, что Пиеттомин и Вайтин на 28 августа бежали с места своего причисления, обокрав разных людей, и что хотя он отыскивал тех преступников, но в Сургутском отделении их не оказалось. Когда же суду сделалось известно, что Пиеттомина и Вайтина видели плывшими в лодке к Обдорскому отделению, то суд 9 октября предписал тамошнему заседателю их поймать. Между тем Пиеттомин сначала скрывался в разных местах, занимаясь воровством, а потом, когда составил себе шайку, простиравшуюся, наконец, человек до 400 инородцев, стал покушаться и на значительные грабежи: распустил слухи, что он в Березовском краю понизит цены на все русские товары и даже на отпускаемый из казны хлеб и что инородцы будут платить подати вместо двух песцов одного, назвался царем всей низовой стороны и посылал в Обдорск нарочного сказать, чтоб до его туда прибытия инородцы не смели вносить ясака, а купцы торговать, и нарушение сего приказания, грозил строго с ним поступить. Этим Пиеттомин навел такой страх на обдорских жителей и остяков, что каждый из них боялся быть убитым или, по крайней мере, ограбленным. Генерал-губернатор по получении от начальника Тобольской губернии известия, как о возникших в Березовском крае беспорядках, так и о принятых к прекращению их мерах, немедленно предписал ему составить комиссию из советника губернского правления (начальником губернии назначен был в сию комиссию советник Соколов), адъютанта своего графа Толстого и чиновника особых поручений Тобольского общего губернского управления Казачинского, для необходимых на месте происшествия распоряжений и узнания причин беспорядков с тем, чтоб, по окончании ими следствия, находившийся уже под стражею Ваули Пиеттомин был предан военному суду; а г. военного министра, донеся его сиятельству о своих по сему случаю распоряжениях, известил, что впоследствии представит ему, со своим мнением, дело о Пиеттомине и не преминет взыскать с виновных, назначивших сему преступнику с его товарищем, после их наказания, близкое к их родине местопребывание. Г. военный министр на это отвечал, что государь император, по всеподданнейшему докладу генерал-губернаторского рапорта, о возникших в Березовском крае беспокойствиях между остяками и самоедами и о принятых к их усмирению мерах, высочайше одобряя все по [157] этому предмету распоряжения, изволил поручить генерал-губернатору войти в ближайшее рассмотрение, не подали ли повода к этим беспорядкам, кроме возмущений ссыльным Ваули, какие-либо притеснения, злоупотребления или наущения. Сообщая сию высочайшую волю, его сиятельство просил о последующем его уведомить, для доклада его величеству. Учрежденная в Березовском крае комиссия окончила свои там занятия и из представленного ею дела сказывается следующее: Пиеттомин с Вайтиным, по присылке их в Сургут, были причислены к Парчинской волости, но оставались до побега в самом Сургуте и нанимались в работу у тамошнего мещанина Силина. Потом, когда возымели желание возвратиться к своим семействам, обокрали хозяина и бежали. По возвращении на родину Пиеттомин сначала уверил народ, что начальство назначило его главным старшиною над всеми инородцами Обдорского отделения, обманывал их шаманством и воровал, а впоследствии, когда увеличилось народное к нему доверие и шайка его усилилась, он стал грабить, делить награбленное со своими соучастниками, объявил себя царем низовой стороны, сменил двух самоедских старшин: Содома Ненекина за то, что он, в 1839 году убил грудного младенца родственника его, Пиеттомина, Танута 10, женившегося на невесте Ненекина, за которую и часть калыма была уже заплачена, а Падиги за его бедность, равно хотел сменить и князя Тайшина, который, как выше упомянуто, просил об удалении Пиеттомина на поселение, запрещал внос в казну ясака, пришел в Обдорск с тем, чтоб цены на казенную муку и русские товары понизить, а на рухлядь возвысить, принудить князя Тайшина выдать из казенных магазинов муку, все, что можно найти у Тайшина и в Обдорске, по случаю начавшейся тогда ярмарки, ограбить, при малейшем тому сопротивлении действовать оружием и убить как князя Тайшина, так и заседателя с исправником. Хотя слухи о грабежах Пиеттомина, после побега его из Сургута, начали доходить до Обдорска еще весною 1840 года через инородцев, приезжавших туда по своим надобностям, но тамошний заседатель Соколов, преданный всегдашнему пьянству, не только не предпринимал никаких мер к прекращению тех грабежей, но когда из числа инородцев Япта Мурзин в марте того года с несколькими другими, жалуясь Соколову, что Пиеттомин ограбил у них оленей и всю годовую их пропорцию хлеба, просили дать им муки из магазина под ручательство, то Соколов, закричав на них, что это до него не касается, выгнал их от себя, и они принуждены были у одного мещанина брать муку в долг по дорогой цене. Равным образом Соколов прогнал от себя приезжавших к нему в декабре из ограбленных Пиеттоминым старшину Лабе Оленина и других человек 10, которые извещали его, Соколова, что Пиеттомин продолжает грабежи и следует с своей шайкой к Обдорску. Соколов сделал то же с Яптой Мурзиным, приезжавшим после того к нему через неделю с тем же известием. А потому как Япта, так и Лабе с прочими остались в Обдорске ожидать приезда исправника. [158] Исправник, прибыв туда 1 генваря и узнав о намерениях Пиеттомина, убеждал инородцев не страшиться разбойника и стараться его поймать, но когда заметил, что инородцы, страшась мщения и колдовства Пиеттомина, не осмелятся отказать ему в покорности, то по недостаточному количеству в Обдорске казаков, пригласил к общей защите русских, приехавших на ярмарку, и жителей Обдорска, поручил князю Тайшину и его родственнику Япте Мурзину 11, видом покорности и готовности исполнять все требования, стараться заманить Пиеттомина в Обдорск, а постоянно живущего в Обдорске березовского мещанина Нечаевского убедил, будто бы для торговли, съездив в те места, в которых Пиеттомин находился с своей шайкой, разведать об ее вооружении, предположениях и главных сообщниках и с тем вместе упросить Пиеттомина приехать в Обдорск для того, чтобы там его схватить, так как у исправника не было никаких средств сделать это на месте пребывания разбойничьей шайки. Нечаевский, несмотря на свое одиночество, оставив все свои торговые дела, на собственных оленях, с незначительным числом товаров отправился в путь и в 150 верстах от Обдорска отыскал Пиеттомина человеками с двумя стами его сообщников, который принял его как старого своего знакомого. Нечаевский успел уверить Пиеттомина, что о нем в Обдорске давно забыли, и никто не думает его преследовать. Тогда Пиеттомин открыл ему свои замыслы на Обдорск. Нечаевский, соглашаясь с ним по всем, не показывал ни малейшего сомнения в его силе и власти, просил его приехать к нему в Обдорск, обещаясь его угостить, дать ему вина и даже подарить лучшую из оставшихся после отца вещь. По возвращении в Обдорск Нечаевский сообщил исправнику все виденное и слышанное у Пиеттомина. Пиеттомин въехал в Обдорск с 40 человеками самых отборных из толпы ему приверженных, прочим приказал понемного подъезжать, и часть оставил около хлебных магазинов, находящихся в версте от Обдорска. С 20 человеками вооруженными одними ножами вошел в юрту князя Тайшина; других 20 оставил при нартах, на которых под оленьими шкурами было оружие: луки со стрелами, шесты с копьями и несколько ружей. Этим 20 человекам Пиеттомин приказал быть на страже и, в случае нападения, стараться подать ему с товарищами оружие. В юрте князя Тайшина требовал себе от него и прочих дани и объявил князю смену. Между тем исправник вблизи той юрты, в неприметных местах расставив казаков и других приглашенных им к тому людей, сделал верные для поимки Пиеттомина и его сообщников распоряжения. Потом посылал два раза просить его к себе в гости и, когда тот к нему не пошел, сам к нему явился с тем же приглашением. Внезапное появление исправника изумило и привело в смущение Пиеттомина и его сообщников. Исправник, воспользовавшись их смущением, взял Пиеттомина за руку и повел к себе. Пиеттомин, видя, что он обманут, хотел было бежать, но, по данному исправником знаку, был схвачен. Тогда некоторые из его последователей намеревались его освободить, но не успели. Один из них бросился было с ножем на исправника, но урядник Шахов, в ту минуту подбежав к нему, ударил злодея обнаженною саблею по руке, вышиб у него нож и тем избавил исправника от явной опасности лишиться жизни. В то же время приготовленные [159] исправником люди одни отнимали у выбегавших из юрты князя ножи, другие выхватывали из нарт Пиеттоминой толпы оружие, ломали его и разгоняли оленей с нартами, а прочие, по указанию Нечаевского, ловили злоумышленников и, посредством этих благоразумных мер, поимка главного разбойника и рассеяние его шайки обошлись без смертоубийства, спокойствие в Обдорске восстановлено, и инородцы в благоговейном восторге сделали угоднику божию Николаю на 300 рублей разных приношений. Комиссия удостоверяет, что остяки и самоеды (в чем она убедилась после самых тщательных расспросов их по дороге, от Березова до Обдорска) совершенно довольны управлением земского начальства и, хотя в частности были принесены жалобы 12 на притеснения их заседателем Соколовым, на неудовлетворение законных их просьб и нанесение им безвинно побоев, но эти частные неудовольствия нисколько не были причиною временного успеха Пиеттомина, шайка которого была составлена большею частью из людей, не имеющих дневного пропитания, привлеченных к нему лестными обещаниями богатой добычи, шаманством и другими способами, чему доказательством может служить случившееся с самоедом Сой. Пиеттомин встретился с ним, когда шел к Обдорску и, зная, что Сой, как человек ловкий, может увлечь за собой несколько из своих собратий, предложил ему сначала с ласкою, а потом с настойчивостью присоединиться к нему, но когда он на то не согласился, Пиеттомин жестоко его избил, вышиб ему передние зубы, приказал его убить, и этот несчастный обязан своим спасением сообщникам самого Ваули. Начальник губернии, представляя генерал-губернатору дело о возмущении самоедов Обдорского отделения, доносит, что о поимке более виновных из них уже сделано распоряжение 13 и испрашивает разрешения, не преследуя остальных, ограничиться строжайшим за поведении их надзором, потому что: во 1-х, мирные инородцы просили не посылать к ним в кочевье вооруженных казаков, во 2-х найти всех участвовавших в грабежах Ваули невозможно по отдаленной, неизвестной и очень раздробительной на пространство нескольких тысяч верст кочевке их в тундрах и лесах, и в 3-х, эти люди обольщены Пиеттоминым и преступны менее по своей воле, чем потому что боялись ослушаться его, как сильного, наглого и, по их понятиям, святого человека. А прежде того Ладыжинский, доводя до сведения генерал-губернатора о поимке Ваули, представил список людям, содействовавшим исправнику в поимке этого начальника шайки с тем, что не прикажет ли он (генерал-губернатор) изъявить особенной от его имени благодарности как тем людям, так и Обдорской казачьей команде. Об исправнике же отозвался, что благоразумные, смелые и с некоторою опасностью жизни сопряженные его действия тем более достойны поощрения наградою, что этот чиновник опытностию своею полезный для того отдаленного края, просил уже его ради детей, требующих учения, перевесть его на другое место, но он убедил его, для пользы службы повременить. [Подпись]. [160] Краткая записка, составленная в Тобольском губернском суде из дела о беспорядках в Обдорском отделении, произведенных беглым инородцем Ваули Пиеттоминым с сообщникам 14 Обстоятельства дела этого следующие: В журнальной записке, постановленной 1841 года, березовский земский исправник Скорняков писал: по приезде его из Березова в Обдорск явился к нему инородческий обдорский князь Иван Тайшин со многими инородцами и старшинами; осведомясь от них о малом начатии инородцами положения ясака, спросил он князя, почему не полагается до сего времяни инородцами ясак, так как в прошедшие годы в сие время производился сбор его значительно? На что тот Тайшин объяснил, что низовые самоеды, хотя и следуют в Обдорск чумами своими не очень в дальнем расстоянии, и некоторые старшины их были даже в Обдорске, но удерживаются положением ясака по наказу самоедина Ваули Пиеттомина, который, присоединив к себе ватагу до полсотни или более человек и производя грабежи у инородцов, обещал быть в Обдорск, и что некоторые старшины опасаются полагать прежде его ясак, по угрозам его, отнятием у них после сего оленей. Сверх сего он Тайшин присовокупил, что он, ожидая прибытия его исправника в Обдорск, посылал своего ясашного остяка Япту Мурзина в необитаемую тундру звать его Ваулю Пиеттомина к себе в Обдорск, и он, кочуя чумами или шалашами, обещался быть непременно в Обдорск. Так как Ваули Пиеттомин, бывши судим и наказан за преступление по приговору судебного места плетьми с поселением в 1839 году в Сургутское отделение, откуда бежал, то, почитая обещание Пиеттомина быть в Обдорске невероподобным, как опытного по прежней поимке его за преступления, им сделанные, нужным почел тогда же собрать некоторых старшин в ясашную, понудить их к положению ясака в присутствии своем с уверением их, что Ваули Пиеттомин никакого вреда делать им не может, в каковой день и положено ими в ясак до 40 песцов. За сим сказал князю, дабы он еще послал тайно для узнания действий и намерений Пиеттомина в тундру; между тем и предположено было г. исправником без огласки послать в тундру к Ваули Пиеттомину опытного и надежного человека из русских под видом торговли, разведать случайно: будет ли он Ваули в Обдорск, просить его туда, осмотреть все имеемое при нем и его действия с узнанием сообщников, орудия при нем и всей ватаги, им приобретенной. Для выполнения всего этого исправник избрал находящегося в Обдорске березовского мещанина Николая Нечаевского, как известного по его благонадежности и усердию. К каковому разведыванию исправник нашел удобным употребить Нечаевского и потому более, что он знает по-самоедски лучше прочих, знаком Ваули Пиеттомину по прежним торговым связям с ним покойного отца Нечаевского. Без собрания же означенных сведений исправник не мог приступить ни к каким мерам для схвачения Пиеттомина, сколько по чрезвычайной отдаленности местонахождения его от Обдорска на таковом пространстве неизвестной тундры или степи, столько же и по малочисленности полицейских служителей, коих в Обдорске с вахтерами запасных магазейнов только семь человек, а потому и заключил земский исправник сделать подлежащее распоряжение и по возвращении Нечаевского донести г. начальнику губернии. Г. березовский земский исправник рапортом от 14 генваря № 12 донес г. исправляющему должность гражданского губернатора со [161] словесного объявления князя Тайшина, что низовые самоедцы, хотя следуют сюда не очень в дальнем расстоянии и некоторые старшины их были в Обдорске, но удерживаются от положения ясака по заказу бунтовщика Пиеттомина. Далее г. исправник объясняет в рапорте своем те же обстоятельства, какие видно в вышепрописанной журнальной его записке. За сим дано от него предписание уряднику Шахову с имеемыми там 4 казаками, княжцу Тайшину и обдорскому отдельному заседателю собрать опытных обитателей, отправиться туда, где он, Ваули, находится, взять его благоразумными мерами под стражу с посылкою в город Березов. По каковому действию желал следовать туда и сам он, но поездка туда князем Тайшиным и старшинами отвлечена неимением дорог, дальним расстоянием и переменных оленей, да и невозможностью поймать его по быстроте имеемых у него оленей и ограждением себя всегдашнею осторожностью. Между тем без огласки посылаемый к Пиеттомину о подробном о нем разведывании, возвратясь, объяснил, что означенный Пиеттомин имел у себя подобранную орду самоедцов, до 400 чел. простирающуюся и, будучи вооружены винтовками и стрелами, подъехал с ним ближе к Обдорску и остановился чумами в 25 верстах расстоянием, на тех местах, где проходят самоеды в Обдорск для положения ясака, с преграждением путей им. При сем же от него г. исправника с посланным был и князец Тайшин с 13 старшинами остятскими и самоедскими, которые равно и сам Тайшин, подходя к нему Пиеттомину, с уважением целовали у него руки, о чем сказывал ему и сам князец с тем, что он это делал из подобострастия, а ездил к нему по зову самого его, и он Пиеттомин требовал от него и всех старшин собрать и доставить, как можно более, к нему оленей обещался быть в Обдорске завтрешнего числа. Он г. исправник по долгу звания своего предпринимал меры к поимке того Пиеттомина с обдорскими обитателями, без настоящего орудия, сообщил березовскому управляющему казачьею командою, дабы он, в помощь и ограждение обитателей и в предупреждение могущих быть опасных последствий, прислал в Обдорск вооруженных казаков хотя до 25 человек. Г. березовский земский исправник при предложении от 14 генваря за № 13 препроводил бежавших с поселения самоедов: Ваули Пиеттомина, Хонзали Санина, Хонзали Палумина, заключающихся в грабежах у инородцев, в возмущении к отдаче ясака и прочего, предложил земскому суду отобрать от них на законном основании показании, отослать для содержания в острог, ибо они отняты от народа с орудием, подговоренного к грабежу и пришедших в Обдорск более 300 человек, с коими управы были значительны и теперь с ними происходит, из коих первый назвался царем, сменил уже князя и некоторых старшин, которые не смели и объявлять; о поимке же их донесено г. начальнику губернии. Еще г. исправник таковым же земскому суду от 15 генваря № 15 предложил, дабы не отнят был у караульных в Обдорске возмутитель тишины и спокойствия беглый самоедин Ваули Пиеттомин и два сообщника в грабеже самоедов же Хонзали Санин и Хонзали Палумин народом обольщенным шаманством того Ваули, он долгом своим почел отправить их тотчас, при удобном случае, в земский суд за караулом для крепчайшего содержания в остроге от 14 числа при предложении без отобрания показаний, а сего числа от таковых же двух Тюйпада Топкина и Лазерина, занимавшихся единственно грабительством, отобрав показания, препроводил их с оным в земский суд, предложил отослать и сих людей для содержания, если еще не отобраны от первых трех показания, содержать их порознь. [162] На заданные вопросы земским исправником нижеписанные люди ответствовали: Князь Иван Тайшин: в последних числах декабря месяца истекшего 1840 года, по случаю неявки в настоящее время к положению ясака старшин и самоедцов, посылал он, Тайшин, в необитаемую тундру или степь ясашного остяка Япту Мурзина, разведать о причине медленного их хода, который при обращении объявил, что низовые самоедцы удерживаются ходом от беглого самоедина Ваули Пиеттомина и приказанием им не класть ясака; присоединивши он, Ваули, к себе прежде бывшую у него ватагу и многих других самоедцов, разглашая, что они должны ясак платить только по одному песцу, а не по два, что с них взыскивают излишне, равно и за казенную муку платить деньги не должны, между тем он, Ваули, через приверженцев своих отгоняет у самоедцов, сколько ему угодно, оленей, показывая им шаманство или колдовство свое, и сам он, Ваули, с ватагой своей идет в Обдорск, чрез что некоторые старшины опасаются полагать прежде прибытия его в Обдорск ясак по угрозам его отнятием у них всех оленей. После сего того же Мурзина посылал он еще навстречу к нему Ваули узнать о его действиях. Ваули же, увидавшись с Мурзиным, заказывал с оным сказать князю, дабы он до приезду его ясак не принимал и торговцы, чтоб никто не торговали, и говорил, что, когда он придет, тогда прикажет как ясак принимать и у торговцев на муку и хлеб положить цену, в противном же случае, чтоб от него хорошего не ожидали, при том же Мурзин ему объявил, что он Ваули, будучи вооружен огненным и кинжальным орудием с присовокупленным народом до 400 человек, некоторые вооруженные следуют к Обдорску ближе, о чем он объявил тогда отдельному заседателю и земскому исправнику, но поймать его тогда никак было невозможно. За сим по приближении его, Ваули, к Обдорску, за 100 верст примерно, послал он Ваули за князем самоедина Салы Ялтына, звал к себе, на каковой зов он с некоторыми старшинами поехал к нему, доезжая до чума Япту Мурзина, примерно от Обдорска в 25 верстах, где находилось народу до 300 человек, съехавшихся с разных мест и дожидают туда приезда Ваули, и он только мог подъехать к оной толпе, куда и приехал Ваули со многочисленным народом и с мещанином Нечаевским, остановился у чума, потребовал его к себе, сам сидя на санках, и он Тайшин подъехал к нему, встал с санок и кланялся ему, но он начал его ругать всячески, почему он жаловался на него в грабеже и просил сослать его на поселение, и хотел его Тайшина за то бить оленьим рогом и пришедший в великий азарт, но, по убеждению мещанина Нечаевского, несколько он Ваули себя скротил: он Тайшин просил у него Ваули в том прощения, кланяясь ему, и целовал у него руку, и он при том сказал ему Тайшину, что он будет сменен им с княжества остяком Яптою Мурзиным за непослушание его к нему, Ваули; он Тайшин, повинуясь сему, обещался ему уступить свое княжество, с обещанием, что если требовано [что] им будет, все исполнено будет, но только по свидании с прочими старшинами, причем он звал его к себе в гости, где может решиться и в даче ему оленей или требуемой ему дани. Побывши же он Тайшин тут примерно часов пять, с позволения его поехал обратно с мещанином Нечаевским и старшиной Лявой Ендыревым. На другой же день он, Ваули, подъехав к Обдорску со многочисленным народом, остановился близь казенных магазинов, послал за ним; по приезде же со старшинами сначала обошелся с ним грубо и кричал ему, почему он прежде не встретил, и тут вторично ему назначал смену, говорил ему, если не уступит княжество свое, то хотел воротиться назад; но он уверял его в том, при том же обещал ему со [163] старшинами требуемых им оленей и просил его к себе в избу в гости, на что он и согласился. Подъезжая к его, Тайшина, избе, вошел в оную со своим народом и начал расспрашивать у него: кто какой старшина? сколько положил ясаку? Потом начал требовать у всех старшин оленей от 100 до 500 у каждого, также и песцов, а у него требовал муки до 300 пуд. И все ему обещали, что он требовал, при том приходили к нему русские и звали его к исправнику в гости, но он не пошел. Потом пришел заседатель, тоже звал его к исправнику, но он ему никакой чести не отдал, промолчал. Вслед за тем пришел и сам г. исправник, и он Ваули, оробевши, стал на ноги. Исправник же ему сначала говорил: почему он ослушается? Потом взял его за руку и повел из избы. Приверженцы его, Ваули, самоедцы кинулись его отнимать; тогда по команде от исправника началось казаками и жителями Обдорска с оными самоедами сражение; он же Тайшин, испугавшись того сражения, и чтоб ему чего не последовало от тех самоедцев, с некоторыми остятскими старшинами убежал и спрятался. И как кончилось оное сражение, он не видал. Во время же брожения его, Ваули Пиеттомина, было им ограблено в 1840 году и ему объявлено: у самоедов Лаба Аоки 140 оленей и две старинные доставшиеся от предков его кольчуги; у Халида Паседина — 102 оленя, у брата его Ханзюру Паседина — 220 оленей, у остяка Тыяды — 50 оленей, у Япты Мурзина — 15 оленей, у вайтважского остяка Езика Томачева — 50 оленей, у обдорского остяка Огама Юркина — три оленя, три пуда муки, семь сажен моржевого ремня, три упряжи ременные, табаку два и пороху два же фунта, а сколько было жалоб в 1839 году, равно и мелочных грабежей и в 1840 г. им Ваулей с товарищи чинимых, упомнить по неимению письмоводства не может. Ляу Ендырев Паин: действительно он ездил с князем Тайшиным к самоедину Ваули Пиеттомину, подъезжая они к юрте остяка Япту Мурзина, где находилось множество самоедов, съехавшихся с разных мест и дожидающихся тут приезду Ваули, где и они остановились, но в скором времени приехавши туда Ваули с мещанином Нечаевским и с большим количеством самоедов его ватаги, остановясь у чумы, потребовал к себе князя; подъехавши же к нему князь сошел с санок и сделал ему Ваули своим поклонением честь, но Ваули начал его ругать и называл собакой, за то, что он князь его отдал за грабежи под суд, держа в руках олений рог и хотел им бить князя, но мещанин Нечаевский до сего не допустил, уговорил и он послушал его, оставил свою горячность, и князь просил у него прощение и целовал у него руку, равно и он Паин и прочие с ними приехавшие кланялись ему и целовали у него руки, единственно из подобострастия. Между тем говорил он, Ваули, что он непременно за непослушание к нему его князя сменит остяком Яптой, и князь, повинуясь ему, обещал уступить ему свое княжество и обещался все его приказания и требования исполнять. Пробыв же они тут, примерно до пяти часов, с позволения его с князем и мещанином Нечаевский поехали обратно, а он на другой день непременно обещал быть в Обдорск. Березовский мещанин Николай Нечаевский: 8 числа генваря, по приказу исправника, приехал он тайно на оленях для узнания обстоятельств по предмету народного возмущения и разведывания о приверженцах возмутителя в походные самоедские чумы, состоящие примерно за 150 верст, к знакомому прежде еще покойному родителю его старшине Ваули Пиеттомину, под видом торговли с товаром, который принял его ласково, расспрашивал, что говорят про него и не ищут ли его, не жаловался ли начальству князь и старшины в грабеже им скота и прочего, кладут ли ясак инородцы или нет, причем сказывал, что он заказал князю, дабы без него ясак собираем не был и купцы или [164] торговцы в ярмарку в амбарах не торговали и что он подъедет к Обдорску, установит цены муке и прочим потребностям. Он же Нечаевскин уверял его, Ваулю, в забытии начальством об его поступках, просил к себе в гости по дружбе старой родителя, с обещанием подарков из оставшихся от родителя своего вещей и вина, если ему угодно будет, и он, обещаясь быть, потом поехал с ним Нечаевским и прочим народом его ватаги на 80 санках ближе к Обдорску и остановились у стоящих трех чумов остяка Япты Мурзина, расстоянием от Обдорска в 25 верстах. Тут застали князя, старшину Ляву Ендырева и множество народа самоедского и остятского, съехавшихся с разных мест, дожидающихся туда приезда Ваули. Ваули же, сидя на санках, потребовал к себе князя; по приближении оного, сей последний, сошедши с санок и подходя к Ваули, кланялся. Он же начал его ругать и называть собакой за то, что он просил на него прежде в грабеже оленей и сослали его за то на поселение; пришедши в азарт, хотел бить имеемым при нем оленьим рогом. Нечаевский же, дабы Ваули не убил князя, вынужденным нашелся его уговаривать от сих дерзких поступков, который горячность свою и оставил. Князь же испугавшись просил у него прощения, кланясь, и целовал у него руки. Между тем Ваули говорил Нечаевскому, что он непременно переменит князя остяком Яптою Мурзиным, по непослушанию его к нему. Князь же и старшина Лява, повинуясь и испросив у него прощение, обещали все то исполнить, что он потребует, только по свидании с прочими старшинами, причем князь звал его в гости к себе, где могут решиться и в даче ему требуемой дани от всех старшин. В каковом месте он Нечаевский, побывши до 5 часов, отправился на легких санках вместе с князем и старшиной Лявой Ендыревым в Обдорск; приверженцев же Ваули, участвовавших с ним в грабеже, он тут заметил: брат его Тогомпадо Топкин, он же Пиеттомин, Хазахи Санин, Саню Ванутин, Ханзала, Палумин и Лазарема, во всей его ватаге до 100 человек и ближе к Обдорску кочуют в чумах до 200 человек, подведомственных к нему, ожидающих его. По приезде же в Обдорск Нечаевский объявил его разведование и при поимке оных самоедцев, по известности ему, указывал, кого надобно поймать. Остяк Япта Мурзин пояснил согласно с ответом князя Ивана Тайшина. Самоедин Сали Ямин: бродяжа своим чумом, которым шедши он Ямин к положению ясака в Обдорск и, дошед до чумов [нашел] множество наставленных Ваули Пиеттомина, где был также остяк Япту Мурзин, и он со своим чумом близь оных чумов тоже остановился. Ваули начал посылать тогда помянутого Мурзина в Обдорск за князем, а Мурзин послал за оным его, Ямина, по которого он на легких оленях съездил в полторы суток. На другой же день по приближении Ваули с несколькими чумами ближе к Обдорску, остановился примерно от Обдорска в 23 верстах, посылал его Ямина в Обдорск по причине знания русского разговора разведывать и выслушивать у русских, что о нем Ваули говорят в Обдорске, но он Ямин был в нескольких домах с прочими самоедцами и ничего об нем не слыхал, и с тем возвратился к нему обратно. За сим Ваули пригласил Ямина ехать с собою в Обдорск, взявши с собою многое количество народа [и] на легких санках отправились в Обдорск. Подъехавши к Обдорску, он, Ваули, приказал остановиться близь казенных магазинов, послал его за князем, который вскоре и приехал. Поставя своих оленей, подошел к Ваули с учтивостью, долгое время имели разговор, потом поехали в Обдорск к избе князя; по прибытии же в избу был Ваули с некоторыми самоедцами угощаем от князя мерзлой сырой осетриной. В то ж время приходили посланные от исправника и просили [165] его, Ваули, в гости, но он не пошел, а занялся требованием себе у старшин и богатых самоедов оленного скота, песцов и муки и спрашивал, сколько какой старшина положил ясаку? За сим прибыл заседатель обдорский, кланялся ему и звал в гости к исправнику, но он тоже итти отказывался. Вслед за тем пришел и сам исправник, испугал его зовом своим к себе, взяв за руку, вывел из юрты; по выходе из юрты он рванулся к санкам или оленям, спрашивал, где олени? В то же время казаки загремели саблями, а другие русские взялись за него и понесли. Когда же великое множество приверженцев самоедцев к Ваули кинулись к отнятию, тогда началась по команде драка, и он со многим утащен к исправнику, где и связан; он же Ямин драки не делал и приверженцем к Ваули не был. Старшина Хайда Пиеттомин, бывший старшиной, после того выбран был Ваули Пиеттомин, — кочуя с своим чумом в разных местах только не близь Ваули, назад тому дней 10 присоединился он к ватаге Ваули своим чумом, шел к Обдорску с ним, уговаривая его итти в Обдорск к положению ясака. И шедши с тем до Обдорска, примерно верст с двести, никаких он тогда грабежей при нем не делал, а по приближении их к Обдорску приехал к Ваули березовский мещанин Николай Нечаевский, обходясь с ним дружески, и звал его к себе в гости. И он, Ваули, ему обещался приехать. После того, еще ближе подошедши к Обдорску, послал он, Ваули, самоедина за князем, который и приезжал к нему с подобострастием, кланялся ему и целовал у него руки и уважая его за мудрость шаманства, а по величайшей толпе у него народа он сказывался, что произвели его великим человеком, [он] приказывал князю не собирать до его ясак, пока не придет он в Обдорск, с чем князь и воротился. На другой же день со многим количеством народа Ваули поехал в Обдорск, остановился близь хлебных магазейнов. И по его зову приехал тут князь, и он, Ваули, на него кричал с огорчением, почему он ранее его не встретил, и назначил ему смену, определил на место его быть князем остяка Япту Мурзина, а если он не уступит княжеское свое звание другому, то хотел воротиться назад, и князь, уступая свое звание, между тем со старшинами обещал ему оленей, согласился он, Ваули, ехать в юрту князя, где требовал у старшин по 300 и по 500 оленей и песцов о тем, чтоб привели сами к нему, где он будет находиться, а у князя требовал муки, которые и обещали. Когда же пришел в юрту заседатель звать его к исправнику в гости, то он, Ваули, не отдавал ему чести никакой, промолчал сидя, а вслед за сим прибыл с русскими исправник, и он соскочил с робостью с места своего и, по выводе его исправником из юрты, началась по противности его итти к исправнику, равно и приступу приверженных к Ваули самоедцев, драка и посажен он Хайда под караул и дрался ли, то по случаю данной чем-то по голове ему раны, не помнит, грабежей с Ваули не делал и приверженцем ему не был. Самоедин Ервы-Лый, ватаги старшины Язсвая, у коего и ныне находится самоедин Слев: по приближении его к Обдорску остановился он чумом, откуда на легких санках поехал в Обдорск. По въезде в оный остановился у избы князя и, сидевши на санках, смотрел на находящуюся тут толпу самоедцев ватаги Ваулиной, в то время по выходе Ваули сделалась драка и сражение, по случаю отнимания самоедцами Ваули у русских, и при поимке русскими самоедцев был схвачен и он ответчик, связан и отведен под караул; драки же он никакой не производил, и кто дрался с русскими, он не заприметил, ножик имел на поясу, который вынут кем, или самим потерян, не знает. [166] Самоедин Сирта Ломбаинда: низовой стороны старшины бывшего Ензеру и потом находился у Ваули, приехавши в Обдорск из своего чума для покупки себе хлеба и подъехав к юрте князя, сидевши на санках, смотрел на находящуюся тут толпу самоедцев Ваулиной ватаги; потом вошедши в юрту князя, но вдруг взбунтовались все самоедцы отнятием Ваули от русских, и при поимке русскими самоедцев был и он Ломбаинда схвачен и отведен под стражу, драки же он никакой не производил, и кто дрался из самоедцев не заметил. Самоедин Готта Выньпад: шедши с матерью и братом своим в Обдорск для положения ясака, остановился своим чумом вблизи чумов ватаги Ваулиной, куда приехавши к ним Ваули на легких санках, приостановясь, увидя его Выньпада, говорил, почему он не явился к нему, и кулаком ударил по зубам, сшиб тем зубы из места, почему он чувствует и впоследствии в них боль, и звал Ваули его к себе в ватагу, он на сие не согласился. И приехавши в Обдорск для положения ясака, но по случаю нахождения старшины своего у князя в избе, едва только успел он войти в избу к князю, вдруг случилось сражение чрез отнятие самоедцами у русских Ваули, но он нимало не дравшись, тоже был взят под стражу, с Ваулей он никакого сообщения не имел. Прибывшие с претензиями своими на самоедина Ваули Пиеттомина в грабеже им с сообщниками оленей и прочего, показали: Старшина Каменной стороны Месали Низя: прошлого 1839 и 1840 г. приезжал к оленному своему стаду самоедин Хонзали Санин с пятью человеками, отгонил от его стада 400 оленей к себе, о чем он Низя объявил тогда князю. Самоедский старшина Селипта Пуйков: прошлого 1840 года, весной самоедин Хонзали Санин с 8 человеками приезжал к стаду его, отогнал насильно 80 оленей, о чем он тогда объявил князю, но найти его после того не могли. Старшина Каменной стороны Халида Посадин: прошлого 1840 года приезжал самоедин Ваули Пиеттомин со своей ватагой до 50 человек к нему к чуму, и приказал своей ватаге отогнать у него из стада к себе 102 оленя и у брата его Ханзюры Паседина 220 оленей, которых, отогнавши, угнали невозвратно, о чем он объявлял князю. Самоедин Ханзюра Паседин показал согласно с братом своим Пасединым. Самоедский старшина Каменной стороны роду Ванутты Майха Хыкин: в прошлом 1840 году весной, приехавши к нему самоедин Хонзали Санин, с братом и тремя самоедцами ватаги Ваулиной, ограбил у него ящик с бумагами, принадлежащими старшине, и обратно не возвращал. Самоедский старшина роду Ванюты Мензеда Музин: в 1839 и 1840 годах в зимнее время, приезжавши к нему к чуму самоедцы Ваули Пиеттомин и Хонзали Санин, отогнали у него насильно из стада 100 оленей, о чем он объявлял тогда князю. Ясашный остяк Ендыревых юрт Огам Юркин: действительно в 1840 году в феврале месяце был он со своим скотом и чумом для промысла зверя в тундре: приехавши к нему в чуму самоедин Салю Лазарема с тремя своими сыновьями и пятью самоедцами, поймали у него из стада 3 оленя, вынули из нарты 3 пуда муки, 7 сажень ремня, 3 упряжи оленьи, 2 фунта табаку и 2 ф. пороху, всего примерно на 50 руб.; хотя он и усиливался в недаче онаго, но они увезли насильно, о чем он объявлял князю. Ясашный остяк Вайтважских юрт Езек Томачев: прошлого 1840 г. весной он был в тундре с своим чумом и скотом для промыслу; приезжавши к нему к чуму Ваули Пиеттомин с братом своим и [167] несколькими людьми его ватаги, отогнали у него из стада 30 оленей и угнали к себе, после того дней с пять прислали к нему 10 человек самоедцев его же Ваули ватаги и насильно тоже отогнали 20 оленей; хотя он и не отдавал, но они угнали и говорили ему, что по приказанию Ваули они приезжали, о чем он тогда же объявлял князю. Нижеписанные люди в присутствии Березовского земского суда спрашиваны и показали: Самоедин Ваули Пиеттомин: назад тому 2 года был предан [суду] за грабеж у инородцев оленного скота и по решению наказан плетьми, сослан в Сургутское отделение по волости Парчинской на поселение, находился на месте причисления месяца два, проживал перво у русского, занимался неводьбою из одного пропитания, побег сделал с товарищем своим с места поселения по невежеству, боявшись, чтоб их не отослали далее, при побеге украл съестных припасов, лодку, лук со стрелами, нож и топор у неизвестного ему русского, прибыл к своему семейству. В пути же смертоубийства и насилия не чинил. По прибытии его на место, присоединились к нему, как прежде бывшему старшине, многие самоедцы, и впоследствии времени приверженцы его усилились, и он начал производить грабежи, называя себя большим старшиною. В положении ясака делал преграду посредством остяка Япты Мурзина, который просил Ваули о производстве в князья. За сим Пиеттомин в прочих частях показал согласно князю Тайшину, присовокупил, что главным сообщником его был брат Тогомпада, а прочие были под его распоряжением и властию, а частию брата его Тогомпады, Хазума Паулин; захвачен со стороны приезжавшей к нему положить ясак. Самоедин Менчеда (а не Хонзала) Санин: ясаку от роду своего не платил по случаю бедности, бродяжа по низовым местам для пропитания себя с семейством, чинил кражи оленей из стад неизвестных ему людей. К самоедину Ваули Пиеттомину присоединился назад тому другой год на тундре, тогда, как он пришел из Сургута, сказав, что с поселения отпущен; более он пристал к нему Ваули потому, что он обещался за его класть ясак, и что он сделал покражу 60 оленей у старшины Манли; находясь у Ваули, делал он с прочими приверженцами грабеж у разных людей, которых он не знает, [число] ограбленного количества оленей простиралось до 200, другого ничего не грабили, смертоубийства не производили. Запрещал ли Ваули класть ясак, не знает. Слышал от него, что он князя сменил, а о смене старшин не слышал; орудия он, кроме оленнаго шеста с витнею или копьем и ножа, не имел, а у прочих находилось. Князь был у Ваули со старшинами, кланялись и целовали руки и у князя просил муки и оленей, который при сем и был сменен. Приверженцев Ваули было до 150 человек, впоследствии приверженцев к нему более увеличилось по причине, что он большой старшина и уважаем чрез опасность по ворожбе его, и все приказания его были выполняемы. С каким намерением Ваули приехал к Обдорску он не знает, где с прочими, при защищении Ваули, был схвачен. Самоедин Хазаули Палумин: был при Вауле со своим чумом, в грабеже с ним не участвовал, по приказанию его с прочими приверженцами подъехал к Обдорску, но, в каком количестве их было, не знает. Хотел ли он, Ваули, класть ясак и какое он имел намерение по прибытии к Обдорску, он не знает, где с прочими был схвачен. Тогомпада Пиеттомин: Ваули по прибытии к нему застал у него 20 прежних своих оленей, с которым воровали и отгоняли вместе, но у кого не знает, многое количество оленей для прокормления семейства и ватаги 100 человек; остается до ста оленей при трех его женах, оставшихся в чуму нераздельно. Прочие же обстоятельства показаний [168] его сходны с ответами мещанина Нечаевского и князя Тайшина. При сем Тогомпада объяснил, что стрелы и лук, найденные в его санках, имелись у него с самой осени, оленной шест с острым копьем имел для зверей, у юрты же князя при поимке защищался ножем; кроме висевшего на поясу и вынутого русскими, имел внизу под малицей на случай потери одного, более же ничего не знает, убийств, кроме битья, не делал. Салю Лазарем: по родству жены своей с Ваули Пиеттоминым присоединился к его ватаге, воровали и грабили оленей у разных инородцев, потом вознамерились приблизиться к Обдорску для набрания у проезжающих ясака и оленей, присоединения к себе вместе с ними и людей, количество коих он не знает. В это время князь со старшинами и множество самоедцев прибыли к Ваули, и с подобострастием обещали дать ему оленей в скором времени. Но хотел ли взять Ваули из магазейнов казенной муки до 500 пуд, он не слыхал; отнимал Ваули от взяния под стражу и защищался от русских, по приказанию его Ваули, имеемой при себе нож потерял при драке; что же касается до переговоров каких-либо с князем и сражения, то об этом более знает сын, находившийся телохранителем, а ему ничего неизвестно. В отобранной сказке 19 числа генваря 1841 года самоедские Низовой и Каменный сторон старшины и прочие самоедцы и остяки объяснили, что в отобранных от них показаниях обличают самоедцев Ваули Пиеттомина, Хонзали Санина, Тогомпаду Топкина, Салю Лазеруми и Ханзали Палумина в чинимых ими грабежах и отогнании у них оленей, но не имеют посторонних о том свидетелей, ибо они всегда бродяжили по тундре с чумами со своим скотом, на разных местах, каждый со своим семейством порознь, а в подкрепление их показаний сим утверждают, что всегда они вышеозначенных самоедцев видели в грабеже, в чем они ссылаются и на посторонних инородцев, которые сие и подтвердили. Повальным обыском старшины Неба Яуров с товарищами поведение Ваули Пиеттомина, Хонзали Санина, Тогомпаду Топкина, Салю Лазерума каждый порознь, по приводе к жертве, не одобряет, так как они всегда занимались грабежами и воровствами, у которых и находили неоднократно оленьи шкуры своих пятен с украденных своих оленей, что подтвердил и князь Тайшин, просят тех бунтовщиков из ссылки к ним не обращать, как вредных и неблагонадежных людей, а Хазама Паулина, если благоугодно будет начальству обратить, примут в свое общество. Березовский 3 гильдии купец Андрей Трофимов пояснил: но случаю возмущения инородцев Пиеттоминым, по деланным им грабежам с присовокупленной к себе ватагой, г. земским исправником, квартировавшим в его доме, князцем со старшинами остятскими и самоедскими составлен был совет, при котором он Трофимов был толмачем. По всем убеждениям инородцы не соглашались поймать Пиеттомина, опасаясь, по суеверию своему, его шаманства и колдовства, я решили во всем ему повиноваться. Но как известно сделалось через мещанина Нечаевского, что Ваули приближается к Обдорску с вооруженною шайкою, состоящею почти из 300 человек, решился он, Трофимов, секретно, с согласия исправника, по малости в Обдорске казаков и по неимению надлежащего вооружения, присогласить русских, приехавших на ярмарку, и жителей Обдорска, также отставных казаков и уволенных в отпуск начальством, которые и были по возможности вооружены. По прибытии Ваули в Обдорск и по выходе его с исправником из занимаемой им избы, он был схвачен и обезоружен, приверженцы же Ваули кинулись для отнятия его, в это время началось с обеих сторон [169] сражение, а он, Ваули, по повелению исправника, унесен на руках в квартиру, куда также приведены и другие бунтовщики, из коих двое главных и сам Ваули в то ж время были отправлены в город с конвоем. А на третий день на том месте, где происходило сражение, отслужен господу богу благодарственный молебен, и все самоедские старшины жертвовали святому Николаю чудотворцу, особенно ими почитаемому, звериными шкурами на триста рублей ассигнациями. Действовали в прекращении бунта следующие: березовский купецкий сын Константин Нижегородцев и купец Степан Плеханов; мещане: Дмитрий Шапошников, Николай Нечаевский, Дмитрий Булыгин, Михайло Панаев, Николай и Илья Сергеевы, тобольский мещанин Алексей Мамеев, отставной коллежский регистратор Николай Никитин и сам он Трофимов со своими рабочими 10 человеками. Февраля 4 дня 1841 года, в присутствии Березовского окружного суда, самоедцы: Менчеда Санин, Хонзали Палумин, Тогомпада Топкин, Саля Лазарумин подтвердительными опросами утвердили свои показания без перемены. На данные комиссиею 20 февраля вопросы нижеследующие самоедцы ответствовали: Ваули Пиеттомин, что в грабеже участвовал брат его Тогомпада, а главными сообщниками были ватаги старшины Хандея Ненокана двоюродного брата его, сам он и самоедцы Полума, дядя его Моттий Таск, Аный Таргмдера, Хыму Пенки, прочих же товарищей имен не припомню. Самоедец Тогомпада Топкин: что Ваули Пиеттомин не родной брат ему, но двоюродный, участвовал с ним в 1839 г. в грабежах, и по ссылке Ваули в Сургутский край, он пропитывал его семейство, не зная о настоящем его местонахождении, там же вместе с Ваули был сослан и товарищ его Мыгри Ходин. По прибытии, Ваули сказывал ему, что он бежал из Сургута, а не возвращен правительством, товарищ же его Мыгри отстал от него близь Обдорска, который впоследствии присоединился к ним с 10 человеками. Соединясь с ними, продолжали грабить успешно, чему способствовала ему хитрость брата, который, будучи за два года до переселения своего старшиною, имел много приверженных себе, привлекши на свою сторону еще человек до 40, и они грабили успешно, но у кого именно, не упомнить. В одном месте отбили они у остяка Хаби две кольчуги, которые находятся у брата его Ваули. Кроме назначения грабить, он никаких намерений не знал. Главные сообщники шайки их были: Мыгри Ходин, Сани Ванютин, сын его Менчеда Санин и двоюродный брат Ваули Ханди и Полума Ненянгины, других же не упомнит. Орудия их составляло у всех вообще лук со стрелами, шест с копьем, коим погоняют оленей, а у некоторых имелись ружья для звериной охоты, порох и пули, но оружие это не употреблялось в действие; и по многолюдству их шайки они успевали в грабежах без всякого сопротивления. Во все продолжение времени Ваули называл себя в народе великим старшиною этой страны и повелителем, но называл ли себя царем, он не слыхал. О производимых же ими кражах и грабежах знали все старшины тех улусов, через кои они проходили, но не имели в оных с ними участия, если же они и не доводили о действиях их до сведения начальству, то потому, что удерживались страхом, боясь мщения от Ваули. Главный же старшина обдорский князь Тайшин, как он слышал, знал от них о их действиях с самого начала, то есть с зимы 1839 года. Старшин, смененных братом его, знает только двух Седоми Ненянгина и Пидаги Ненянгина, на место первого определил Оды Ненянгин и на место другого родственника Подаги, имя его не припомнит, Садома сменил Ваули за то, что убил грудного ребенка у родственника Ваули [170] самоедина Топуры Ненянгина, но новопроизведенные старшины в грабежах их не участвовали. Ваули действительно посылал в Обдорск два раза самоедов, в первый Хонзали Палумина, а во второй Недоми Адерова, для узнания, что там делается и для вызова к себе князя Тайшина. Далее обстоятельства показания Тогомпады Топкина согласны с ответами князя Тайшина с присовокуплением, что он не знает, кто намеревался освободить Ваули и кто бросился на исправника с ножем, также, где находится Мыгри Ходин и прочие их сообщники, но не знает, а полагает, что он с оставшей незначительной шайкой откочевал далеко в низовые места к Туруханской стороне на реку Таз. Менчеда Лазероду, по прозванию Санин, в 1839 году в сообществе самоедцев Ваули Пиеттомина и Мыгри Ходина он не находился, да у него самого было ими ограблено несколько оленей и звериных шкур, и о намерении побегу Ваули и Мыгри из Сургута он не знал, и Ваули по прибытии в свой аул объявил, что он возвращен царем и сделан большим старшиною и, соединясь с братом своим Тогомпадою и самоедом Мыгри, производили грабеж, наконец, и он по убеждению присоединился к ним с братом Подором, дядьми Солымом и Моямом и общество по времени увеличилось до 200 человек. Главной же причиной соединению с Ваули была та, что был прежде их старшиною, и из страха к его ворожбе и шаманству. Во время нападения самоедов случались и драки и из числа оных однажды едва были спасены от убийства Ваули два человека: 1 — старшина Лабы во время защищения грабежа своей собственности и 2 — самоедин Пура Соп, за несогласие его для вступления в шайку Ваули. Подобно сему он слышал, что старшина Садоми сделал два преступления, первое у самоедина Надыра Тоназарчаева зарезал грудного младенца из мщения, что мать этого дитяти не вышла за него в замужество, второе от побоев его жена остяка Хочь Морика выкинула ребенка, за препятствование к отдаче чего-то требуемого им. Других же случаев смертоубийства он не знает и не слыхал. Вооружение их состояло из стрел, ружей, ножей и шестов, с приделанными к нижним концам копьями. Сначала, как сказано выше, Ваули называл себя большим старшиною, но по причине успехов в грабеже и сильного влияния его на умы инородцев, говорил, что он повелитель Обдорской страны, не подчинен земскому начальству и что князь Тайшин со всеми старшинами состоит под его властью и наконец назвался царем той страны, что слышали и многие из его шайки, даже и посланный от князя Тайшина остяк Япта Мурзин, а о прочих его намерениях не знает. Прочие показания его сходны с таковыми остяка Тогомпада Топкина, с добавлением, что самоедин Хонзали Палумин в грабежах с ними не участвовал, был нечаянно встречен их шайкою на кочевне с своим чумом и был посылаем Ваули в Обдорск к мещанину Нечаевскому, для приглашения его по торговым делам; но как он Палумин впоследствии времени был схвачен вместе с ними не знает. Сани Ванютин, по старости лет и нездоровью, он никакого участия в кражах и грабежах о Ваули не имел, и потому самому лично удостоверить о действиях его с шайкою, по небытию при оной, не может, а по наслышке им от сыновей своих, находившихся при Ваули, он показал те обстоятельства, какие видны из вышеотобранных ответов. При сем он Ванютин присовокупил, что видел Ваули уже в то время, как он приближался к Обдорску, близ чумов Япти Мурзина, где князь Тайшин целовал у него руки и обещал заплатить требуемую дань, и во время пути к Обдорску Ваули объявил, что он намерен ограбить казенные магазины с мукой и все, что найдет там по случаю ярмарки, у князя же хотел отбить весь скот и, в случае сопротивления, лишить его жизни. По прибытии в Обдорск он остановился у князя, куда [171] прибыл и Ваули, на зов же его заседателем к исправнику он не согласился, и сей последний по прибытии в юрту вывел из оной Ваули за руку, прочие же сообщники его обробев, обратились в бегство, он же Ванютин по старости лет не мог за ними следовать, скрылся вблизь находящемся сене, где он схвачен и отведен к исправнику. Где же находятся сообщники Ваули он не знает. Хонзали Палумин причины к оправданию своему относительно неучаствования в грабежах с Ваули он выводит те самые, какие видны в показании Менчеды Лазероду. При том дополнил, что в 25 верстах от Обдорска видел он князя Тайшина, но какие были причины его приезда туда и какой имели разговор с Ваулей, не знает, слышал только, что сей последний ругал князя и хотел бить оленьим рогом, но был от сего удержан мещанином Нечаевским, и князь просил у него в чем то прощения и целовал руки. Палумин о задержании Пиеттомина пояснил, как и прочие ответчики, наконец и сам с другими был схвачен и отведен к исправнику. Обдорский отдельный заседатель на предписании следственной комиссии от 14 февраля 1841 года донес о исполнении указа Березовского земского суда от 9-го октября 1839 г. за № 1188, о розыскании самоедцов Ваули Пиеттомина и Мадари Ходина, о поимке их даны были казакам приказы, но, по случаю нахождения их в отдаленных местах и со многим количеством сообщников с ним, поймать было невозможно. Следственная комиссия журналами, состоявшимися 1 и 2 числа марта, постановила: по невниманию заседателем Соколовым к законным требованиям комиссии и за оказанное к ней явное неуважение не относиться более к нему ни за какими требованиями. 3 марта о внушении заседателю Соколову, что мнение его на счет действий комиссии неосновательно. И 4 марта об отзыве заседателя Соколова, касательно представления ему ответов в комиссию на данные вопросы. На заданные комиссией вопросы нижеписанные люди ответствовали: Мещанин Николай Нечаевский: самоедец Ваули Пиеттомин по торговым делам был знаком покойному отцу, а потому Нечаевский знал его и слышал, что Ваули из ссылки бежал и производил грабежи, а в 1840 году, бывши по торговым делам за 300 верст от Обдорска, он встретился с Ваули и сообщниками его, в это время им у него Нечаевского товару было отобрано на 90 руб., а у инородцев до 50 оленей, по возвращении он донес об этом заседателю Соколову. За сим сделалось известно во время ярмарки, что Ваули с усилившейся и вооруженною шайкою направляет путь к Обдорску, но какие были приняты меры по таковым слухам заседателем Соколовым ему неизвестно, жители же Обдорска и приехавшие торговцы на случай нападения по возможности вооружились, а, вскоре прибыв туда, березовский земский исправник, сделал нужные распоряжения, потом пригласил его Нечаевского съездить к Ваули, узнать его намерения, число людей и вооружение и пригласить к себе в Обдорск, где будет удобнее его захватить. В это время прибыл от Ваули для приглашения Нечаевского самоедец Хонзали Палумин, о чем он известил г. исправника, отправился в место назначение. Подробности пребывания мещанина Нечаевского у Ваули Пиеттомина известны из прежде отобранного его показания. Наконец по совещании со своими старшинами и по убеждению Нечаевского отправились к Обдорску с тем, чтоб князь со старшинами встретил его по приезде к оному. Во время пути Тайшин открыл все опасения свои в отношении к Ваули и обещался выполнить его требования, хотя и говорил Нечаевский, что Ваули по приезде в Обдорск будет задержан, но сим не убедился и даже советовал и ему не [172] доносить о том, что видел и слышал. По приезде в Обдорск Нечаевский объявил г. исправнику об всем выполненном. В 14 число генваря в 10 часов утра появился близь Обдорска Ваули с передовою частию своей шайки, а за ним тянулось множество нарт с инородцами, числом до 200 человек, и часа чрез два или три соединился с ними князь Тайшин и пробыл не менее двух часов. Ваули по прибытии в Обдорск остановился у юрты князя, с некоторыми из своих вошел в оную, а другие остались у нарт, а остальная шайка остановилась у хлебных магазинов. Что же происходило в юрте князя, ему неизвестно, но по входе в оную г. исправника Ваули был схвачен, и в то время Нечаевский показал участников Ваули, которые были с ним в юрте Мурзина, кто же его старался освободить и кто замахивался на исправника с ножом, он, Нечаевский, в толпе заметить не мог. Иерей обдорской Петропавловской церкви Александр Попов, — идя с квартиры своей в дом дьячка Карпова, видел он, что Пиеттомин остановился с шайкою своею у юрты князя, но число сообщников его не знает, также были ли они вооружены. Потом прибыл в юрту князь и сам исправник, а некоторые из казаков и жителей начали отбирать от самоедцов шесты с копьями. По выведении исправником Ваули из юрты, хотя приверженцы его бросились к отнятию, но в том были удержаны казаками и жителями, а он, Ваули, с товарищами утащен в квартиру исправника. Заседатель же Соколов в действии этом не принимал никакого участия и был, кажется, нетрезв. Многие из инородцев остались довольными начальством и жителями за избавление от нападения Ваули, и пожертвовали церкви звериными и оленьими шкурами до 300 рублей ассигнациями. Урядник Филипп Федоров Шахов: о грабежах Ваули Пиеттомина начали доходить до Обдорска весною 1840 года слухи через инородцев, приезжающих для своей надобности, о чем знали князь Тайшин и заседатель Соколов, хотя сему последнему и жаловались за грабеж на Ваули остяк Япта Мурзин, старшина Лабе Оленин и прочие, но не получили от него никакого удовлетворения, и он даже не принял никаких мер к безопасности и к поимке Ваули, а почему они ожидали приезда г. исправника, который прибыл в Обдорск 1-го генваря и узнал от упомянутых людей о намерениях Ваули, распорядился, чтоб Тайшин через родственника своего Япту Мурзина старался заманить Ваули в Обдорск, дабы иметь возможность его поймать, также употребил к этому мещанина Нечаевского, который успел в этом, обратясь в Обдорск через два дня вместе с князем Тайшиным, т. е. 13 генваря. Это известно ему, Шахову, потому, что он в продолжении этого времени находился при г. исправнике. Ваули на другой [день] с шайкою прибыл в Обдорск и остановился у магазинов, и один из этой шайки ездил за князем, который при приезде к ним пробыл около трех часов. Перед вечером уже большая часть шайки поехала в Обдорск, за нартой Ваули ехал князь, у юрты которого все остановились. С Ваули сняли верхнюю одежду, и Мурзин, взяв его под руку, ввел в юрту, у нарт же осталось несколько человек. А по распоряжению исправника вблизи были расставлены караульные, которые по условленному знаку готовы были к поимке Ваули с сообщниками. При сем заметил Шахов, что в нартах приехавших инородцев были луки со стрелами, в некоторых винтовки и при каждой шесты с копьями, а у самого Ваули лежали в юртах винтовки и меч. Г. исправник посылал сперва звать к себе Ваули казака Канаулина, потом мещанина Андреева, вместе с заседателем Соколовым, который был в нетрезвом виде, наконец и сам пошел в юрту, с ним вошел и Шахов с другими казаками. Исправник, взяв Ваули за руку, сказал: «Здорово Ваули пойдем ко мне в гости!» Внезапный приход исправника привел в [173] робость Ваули, и он вышел из юрты без сопротивления. Испугавшиеся иногородцы, кинувшись вдруг из юрты, затруднили для себя выход, а между тем подоспели торговцы и казаки, обезоружили их я, по указанию Нечаевского, некоторых из них схватили. Шахов же выскочил в окно и увидел, что Ваули, вырвавшись из рук исправника, бросился к своим нартам, но был схвачен и унесен в квартиру исправника, равно и другие из его сообщников, схваченные в ту же минуту. Один из числа намеревавшихся отнять Ваули бросился с ножем на исправника, но Шахов в это время ударом обнаженной своей сабли вышиб нож из руки того неизвестного, и он успел скрыться. Прочие же сообщники Ваули скрылись, ибо по малочисленности народа не было средств к поимке. Заседатель же Соколов, будучи пьян, не оказал никакого при этом случае содействия, стоя за юртою князя, кричал непонятные речи. Но имели ли участие в преступных замыслах Ваули князь Тайшин и другие старшины ему неизвестно. По взятии Ваули незаметно было между инородцами никакого на русских ожесточения и злобы, но только они страшились силы его шайки, колдовства его и мщения, в случае вторичного побега, но, когда узнали, что он увезен в Березов и лишен средств к побегу, тогда всеобщая радость заступила место их спасения, в ознаменовании коей пожертвовали они добровно церкви на 300 р. ассигнациями и разными звериными шкурами. Единственная причина привлечения к Ваули была надежда на богатую добычу, которая по словам шла в общий раздел, а другие инородцы присоединились к нему, боясь мщения и колдовства его, но никогда не слышны были ропоты на начальство, хотя в частности и наносимы были им притеснения заседателем Соколовым, но это не содействовало к соединению их с Пиеттоминым. Причины такого обращения заседателя Соколова не только с инородцами и с жителями Обдорска есть всегдашнее пьянство, от которого приходит иногда в сумасшествие, и до приезду комиссии за три дня был пьян и в оном положении, из вытребованных по предварительному предписанию комиссии из чумов князя Тайшина и прочих старшин, он, Соколов, остяка Япту Мурзина бил жестоко, без всякой вины и хотел надеть на его колодки, произнося при этом, что он будьто грабитель вместе с Ваулей, несмотря на то, что Мурзина оправдывал князь Тайшин. Урядник Иван Ослопов, казаки Андрей Какоулин, Николай Старков, Игнатий Москантин, купецкий сын Михайло Чечуров, мещане Сергеев, Гуличин, Мамеев в ответах своих против ответа урядника Шахова показали согласно. Князь Иван Тайшин слышал от инородцев ему подведомственных, что Ваули привлек на свою сторону людей бедных, не имеющих никакого пропитания, чрез угрозы, обманы и вымышленное колдовство. Ваули при свидании с Тайшиным и при народе говорил, что он могущественнее самого царя, о смене же старшин Седома и Падиги он узнал тогда, когда был в чумах у остяка Япты Мурзина, но воспрепятствовать в том Вауле, по причине усилившейся его шайки, было невозможно, и по краткости времени не успел донести местному начальству, о всех жалобах старшин на грабежи Ваули объявил заседателю Соколову; но он не делал никакого удовлетворения, не утаил от Соколова и то, что его Тайшина намерен был Ваули сграбить, но в этом намерении не успел. Он прежде не имел никаких сведений о намерении Ваули его сменить. Япту Мурзина посылал он к Ваули два раза, будучи совершенно уверен в преданности его к правительству, звать в Обдорск, где удобнее его можно будет схватить. Ваули в оба раза отвечал, что он в Обдорск будет только тогда, когда Япта будет князем. Во время встречи Тайшиным Ваули близь Обдорска, последний первого начал ругать и хотел ударить оленьим рогом, но [174] от этого удержан мещанином Нечаевским, за то, что выдал его в 1839 г. в руки правительства; ему Тайшину невозможно было тогда противоречить, и чтобы успеть в своем намерения заманить его в Обдорск, принужден был унизиться до того, что целовал у него руку, соглашаясь заплатить ему дань, и даже соглашался уступить место свое Мурзину, и он следствие своей поездки сообщил подробно г. исправнику, а Нечаевскому не открыл потому, чтоб он не проговорился и чрез то не расстроил его плана. На другой день подошел Ваули к Обдорску и к нему по зову явился Тайшин, уверив в своей преданности и в исполнении всех его требований, убедил Ваули въехать в Обдорск и получил на это согласие. По приезде Ваули остановился у юрты князя, с него снята была верхняя одежда и он под руки введен был в оную, где и делал раскладку дани на всех старшин, начиная с князя, но приход заседателя отвлек его от этого занятия, которому он не сделал должного уважения, даже не встал со своего места и не согласился на зов его итти к г. исправнику. Но при входе сего последнего Ваули смутился, с покорностью встал со своего места и беспрепятственно последовал за ним из юрты: Тайшин же по тесноте не мог выбраться из юрты, а потому не знает, что делалось на улице, сообщники же его должны быть на реке Енисея. Япта Мурзин в ответах своих говорил согласно с Тайшиным, присовокупив, что он Мурзин никогда не имел намерения быть на месте князя, хотя и желал этого Ваули. Однажды он точно согласился на принятие этого титла, единственно для того, чтобы привлечь Ваули в Обдорск, Ваули не называл себя царем, а только великим старшиной, не знает, кого именно он посылал к князю и зачем, но полагает, что с намерением устращать его и взять дань, о смене же старшин услышал он только в то время, когда Ваули был близь его чумов, но кто именно был сменен и за что, не знает. Старшины Ляу Ендырев, Небыр Тобольчин, показали согласно князю Тайшину. Березовский окружной суд по рассмотрению этого дела мнение полагает: 1) из числа самоедцов Меньчеду Санина, Тогомпаду Топкина, добровольно сознавшихся в грабеже у разных инородцев на немалозначительную сумму оленей, а также и в намерении ограбить князя Тайшина и казенные запасные магазейны с мукою, хотя бы следовало на основании 120, 121, 123, 726, 727, 1030 и 1031 ст. 15 т., Зак. Угол. подвергнуть телесному наказанию кнутом и ссылке в каторжную работу, но как ими сие преступление учинено до издания всемилостивейшего манифеста, состоявшегося в 16 апреля сего 1841 года, то, применяясь к 11 пункту оного, избавя от такового телесного наказания, сослать в каторжную работу, по назначению приказа о ссыльных; 2) Сану Лазарина (он же Ванютин) и Хозали Палумина, первого из них, как при начальном вопросе земского начальника Скорнякова сознавшегося в соучастии с Ваулею Пиеттоминым по предмету чинимого воровства и грабежа, а также защищения себя во время случившейся в избе князя Тайшина драки, имевшимся при нем ножиком, и передопросе, сделанном следственною комиссиею, учинившего во всем том запирательства, освободив от назначенного законом телесного наказания, в силу того же всемилостивейшего манифеста III пункта сослать в Иркутскую губернию на поселение. 3) а последнего, то есть Палумина, не сознавшегося в воровстве и грабеже с Ваули, но оговоренного Топкиным в этому соучастии и достаточно не изобличенного по силе 109 и 1155 ст. ст. 15 тома Зак. Угол. оставить в сильном подозрении, и как он Палумин по сознанию его, что он от сообщников Ваули и от самого его пользовался, вероятно, заведомо ограбленными оленями, то его Палужина сослать далее в Сибирь на поселение, 4) О тех, какие [175] значатся в реестре следственной комиссии инородцы и именно: Мы-Яры, Той-Ходин, Пильту Туиби с прочими товарищами, всего 22 человеками, заключающимися также с Ваули Пиеттоминым по предмету грабежа, но не известно куда сокрывшиеся, ограничиться строгим местным за ними наблюдением, что и возложить на земский суд, с тем, чтобы оный в поимке их употребил самые скорые и деятельные меры, так как они все поименованы тому суду в реестре, приложенном при подписании комиссии от 25 февраля с/г. 5) Поступок инородца Садома Ненянгина в убийстве грудного младенца у самоедина Топуры Ненянгина ж впредь до поимки его из бегов оставить без положения. 6) Князю Тайшину, старшинам Обдорского отделения за несвоевременное объявление по начальству о чинимых Пиеттоминым грабительствах, в начале появления в тот край по побеге с места причисления, куда сослан он был за прежние преступления, но тогда, уже когда грабежи еще более начали увеличиваться и покушения на жизнь самого Тайшина, признав по 1 и 4 пунктам 13 ст. 15 тома Зак. Угол. выдержать всех старшин в Обдорском отделении под караулом, а князю Тайшину строго подтвердить, чтоб на предбудущее время сколь можно старался быть по службе деятельнее. 7) Инородцам же, у коих ограблены Ваулей олени, возвратить через земский суд и всех тех оленей, какие только опознаны будут ими у жен грабителей, в остальном же иске по 484 ст. того же 15 тома хозяевам таковых покраденных оленей отказать. 8) Прочим же инородцам того отделения в деле заключающимся, как то: Соли Яившину, Ервалы Сирта, Ламболиду, Горша Вырпаду и прочих, прикосновенных к оному делу, на основании 107 и 108 ст. 15 т., оставить свободными. 9) Что же касается до бывшего обдорского заседателя Соколова, оказавшего при отобрании от него следственною комиссиею нужных по делу сему ответов упорство и прочие противозаконные действия, а равно оказанные при произведениях начального следствия земского исправника Скорнякова к прекращению грабежа и поимке преступников, то об этом предать в благорассмотрение высшего начальства Губернский суд по рассмотрению обстоятельств настоящего дела, представленного при рапорте Березовского окружного суда от 24 июля за № 64 решительным определением, состоявшимся 9-го сентября настоящего года, заключил: по обстоятельствам этого дела учинить следующее: первое, самоеда Тогомпада Топкина Пиеттоммина за ограбление разных инородцев на немалозначительную сумму оленей и за намерение в числе прочих подобных себе, бывших под управлением инородца Ваули Пиеттомина шайки вооруженных, ограбить князя Тайшина и казенные запасные магазейны с мукою, хотя бы и следовало подвергнуть определенному законом публичному наказанию кнутом, но благостию всемилостивейшего манифеста, состоявшегося в 16 день апреля 1841 г. 11 ст. избавя от наказания, сослать в отдаленную Сибирь в каторжную работу, по распоряжению Тобольского приказа о ссыльных, такового ж Менчеда Самина, он же Сенин, тоже бы следовало за это самое преступление подвергнуть тому же наказанию, но за смертию его оставить без положения. Второе, Саниала Ямо Лазаридо, он же Ванютин, Ханзали и Хазауми (а не Хатауми) Палумина первого, как при первоначальном вопросе земским исправником Скарняковым, сознавшегося в том грабеже и воровстве и также в защищении себя и прочих во время случившейся в избе князя Тайшина драки, а при передопросе, сделанном следственною комиссиею, учинившего во всем том запирательство, но по следствию некоторыми в том показании и обстоятельствами обличаемого, не давая веры отрицательству, на основании 109 ст. 15 т. Зак. Угол. оставить в сильнейшем подозрении, сослать в переселение от [176] сообщества со скрывшимися участниками, в отдаленную Сибирь на поселение по распоряжению приказа о ссыльных, который о всех преступниках от сего суда уведомить, а последнего Палумина, хотя не сознавшегося в грабеже и воровстве и никем из соучастников Пиеттомина не оговоренного, но признавшегося, что он получил от сообщников Ваули Пиеттомина и самого его оленей, якобы по бедности своей, как человека подозрительного и в самом участии, удалить от сообщества в другие места, по усмотрению начальства на основании 585 пункта и 64 ст. 15 т. Зак. Угол. Третье, о значущихся в реестре следственной комиссии инородцев Мы-Яры, Той-Ходине, Бильте-Тукбе, всего 22 человеках, заключающихся также с Ваули Пиеттомином по грабежу, суждение их впредь до поимки оставить, равно и поступки инородца Садоми Ненянгина в убийство грудного младенца и самоедина Топура Ненятина же, тоже до поимки и его. Четвертое, князю Тайшину и старшинам Обдорского отделения, за убийство грудного младенца у самоедина Топура Ненянгина ж, тоже несвоевременное объявление по начальству о чинимых Пиеттоминым грабежах в начале появления его в край тот, по побеге с места своего поселения, куда он был сослан за подобное прежде сего преступление, хотя бы и следовало наложить соразмерно невниманию и беспечности их по законам строгое взыскание, но за силою последовавшего всемилостивейшего манифеста 16 апреля 1841 г. от того избавить, подтвердив, чтоб они на будущее время сколь можно старались по службе быть деятельными, под опасением за противное неизбежного строго по законам наказания. Пятое, инородцам, у коих ограблены Пиеттоминым олени, по дознании о действительной их хозяевам принадлежности, возвратить с распиской под делом, через Березовский земский суд, в остальном же иске по силе 684 ст. 15 т. Зак. Угол. отказать, а прочих инородцев, прикосновенных к сему делу одними спросами оставить без положения. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru..._borba/text.htm Сообщение отредактировал Игорь Львович - 27.3.2010, 0:48 |
|
|
|
 29.3.2010, 5:44 29.3.2010, 5:44
Сообщение
#78
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Миндлин А.
"ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА" СТОЛЫПИНА Первая статья Манифеста 17 октября 1905 г. “Об усовершенствовании Государственного порядка“ гласила: “Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы в началах действительной неприкосновенности личности“ (1). Но о какой неприкосновенности личности можно было говорить, когда в ответ на революционные манифестации по поводу указанного акта буквально на следующий день начались погромы, охватившие почти всю страну и являвшиеся кровавыми “патриотическими“ манифестациями. Погромы были направлены, главным образом, против евреев, но громили также демократические и революционные слои населения. Достоянием гласности стал рапорт от 15 февраля 1906 г. министру внутренних дел заведующего особым отделом Департамента полиции, чиновника особых поручений Н. А. Макарова. 3 мая рапорт без комментариев напечатала газета “Речь“ под заголовком “Из истории нашей контрреволюции“ (2). Каким образом секретный документ попал в периодическую печать сказано далее. Здесь же необходимо подчеркнуть резонанс, вызванный публикацией в российском обществе, так как из нее стало известно о роли Департамента полиции в организации погромов. Возмущенные члены I Государственной думы 8 мая единогласно приняли срочное заявление о запросе министру внутренних дел по поводу печатания погромных воззваний в Департаменте полиции и происшедших в Вологде, Калязине и Царицине беспорядков, подписанное 81 членом Думы (3). Погромы в Калязине и Царицине, и еврейский погром в Вологде произошли 1 мая, как противодействие первомайским демонстрациям. 8 июня в Думе на запрос отвечал министр внутренних дел П. А. Столыпин, недавно назначенный на эту должность. Выступление было пробным камнем его “еврейской политики“. В историографии советского периода в значительной степени укоренилось представление о Столыпине как о “реакционере“, “вешателе“ и “антисемите“. Его современные биографы, например, П. Н. Зырянов и И. В. Островский не оперируют подобными эпитетами и их оценки не столь жестки. Анализируя аспекты деятельности Столыпина, которые опосредованно можно было бы связать с перечисленными эпитетами, они делают акценты на первых двух, уделяя третьему существенно меньше внимания (4). Поэтому интересно проследить, каким было отношение Столыпина к евреям, выражавшееся, в основном, в его позиции по законам о евреях. Значительную часть жизни Столыпин провел в своем имении Колноберже, в Ковенской губернии, населенной преимущественно поляками, литовцами и евреями. В процессе активной хозяйственной деятельности он тесно общался с местным населением, в том числе с евреями, и не понаслышке знал положение последних. Возвращаясь к запросу, следует отметить, что Столыпин хотел быть в Думе при его формулировании, приезжал туда. В это время обсуждался другой вопрос; он уехал, рассчитывая вернуться, но опоздал (5). За неделю до выступления Столыпина — 1 июня начался еврейский погром в Белостоке, продолжавшийся три дня. 2 июня 49 членов Думы внесли срочное заявление о запросе министру внутренних дел, где говорилось: принимаются ли меры к защите еврейского населения Белостока и что намерен министр предпринять для предупреждения убийств, грабежей и насилий над еврейским населением в других местностях. Выступавшие при обсуждении запроса обвиняли власти в прямой организации погромов или в попустительстве им, либо, в крайнем случае, в бездействии и категорически отвергали в качестве причины погромов национальную вражду. Выдвигалось требование отставки правительства. Запрос единогласно был принят как спешный (6). Дума поручила своей комиссии по исследованию незаконных действий должностных лиц немедленно собрать сведения на месте погрома (7). 8 июня, выступая с ответом на первый запрос, Столыпин прежде всего заявил, что согласно статуту Государственной думы разъяснения министров могут касаться незакономерных действий, произошедших лишь после ее учреждения, то есть после 27 апреля. Но все же он решил ответить на запрос, так как весь Департамент полиции обвинялся “в возбуждении одной части населения против другой, последствием чего было массовое убийство мирных граждан” (8). Макаров в рапорте докладывал министру о том, что в помещении Департамента полиции была оборудована тайная типография, печатавшая погромные прокламации. Ей руководил жандармский ротмистр М. С. Комиссаров. Другой же жандармский ротмистр, помощник начальника екатеринославского губернского жандармского управления по александровскому и павлодарскому уездам А. И. Будогоский не только распространял такие воззвания, но и побуждал черносотенцев г. Александровска выпускать свои подобные прокламации с молчаливого одобрения высокопоставленных чиновников Департамента полиции (9). Описанные действия должностных лиц, — завершал Макаров рапорт, — ведущие к возникновению среди населения междоусобной розни, составляют уголовно наказуемое преступление (10). Столыпин свел дело к “неправильным” поступкам отдельных людей, действовавших якобы только по собственной инициативе, отрицал факт оборудования Департаментом полиции “преступной типографии” и утверждал, что последствиями действий департамента “не могла быть масса убитых” во время погромов (11). В Александровске погром произошел 14 декабря 1905 г. Столыпин снисходительно говорил о Будагоском, внесшим значительную лепту в его организацию, Комиссарове и других. Одним из основных доводов в попытке смягчить резонанс от разоблачений Столыпин считал нераспостранение в Александровске “после 14 декабря новых воззваний против революционеров и евреев”. В отношении нареканий за неприятие департаментом мер против погромов объяснения министра были совершенно неубедительными. Повторения “неправильных” действий не будет, — утверждал он (12). Затем Столыпин отвечал на вторую часть запроса — о погроме в Вологде, бесчинствах в Царицыне и убийствах в Калязине (13). Необходимо указать, что в запросе, в выступлении министра и последующем обсуждении не говорилось именно о еврейском погроме в Вологде, хотя по данным советского историка А. А. Черновского еврейские погромы 1 мая были не только в Вологде, но и в Муроме и Симбирске (14). Объяснения министра были путанными. Вообще он считал действия властей, если и не вполне правильными, то и не беззаконными, меры правительства — не реакцией, а порядком, необходимым “для развития самых широких реформ” (15). На эти слова Дума ответила шумом. Член думы князь С. Д. Урусов, выступавший первым после Столыпина, был уверен в его искренности. При таком министре никто не осмелится “воспользоваться зданием министерства и министерскими суммами, чтобы устраивать подпольные типографии” и организовать погром. Но, — как заявил далее Урусов, — главные вдохновители находятся вне сферы действия министерства внутренних дел, поэтому его обещания не имеют твердого основания; никакое правительство не сможет обеспечить порядок и спокойствие, пока “на судьбы страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики” (16). Р. Ш. Ганелин полагает, что под такими людьми Урусов, в частности, подразумевал бывшего товарища министра внутренних дел, петербургского генерал-губернатора, а во время работы I Думы — дворцового коменданта, оголтелого антисемита, сторонника самых крайних правых взглядов, обладавшего огромным воздействием на царя, генерала Д. Ф. Трелова (17). После Урусова в том же ключе выступили еще несколько членов Думы. Основная мысль министра, вновь взявшего слово, заключалась во фразе: “То, что нехорошо, того больше не будет”. Но в зале возник сильный шум и крики: “А белостокский погром?” (18). В решении Думы, принятом в обычной форме перехода к очередным делам, говорилось, что в проходивших погромах и массовых избиениях мирных граждан есть признаки общей организации и явное соучастие в них должностных лиц, оставшихся безнаказанными, что объяснения министра свидетельствуют о его бессилии прекратить погромы, что создается неизбежность их повторения и что только немедленная отставка правительства и передача власти кабинету, пользующемуся доверием Думы, способны вывести страну из погромного состояния (19). Инициатором раскрытия дела о тайной типографии и погромных прокламациях был бывший директор Департамента полиции А. А. Лопухин, получивший сведения от Макарова. Именно после того, как Лопухин в январе 1906 г. дважды беседовал об этом с ничего не подозревавшим председателем Комитета министров С. Ю. Витте, тот приказал уничтожить типографию, но не наказал виновных. Поэтому Лопухин передал копию рапорта Макарова для опубликования в газете “Речь” (20). Кроме того, летом 1906 г., находясь в Мюнхене и прочитав выступление Столыпина 8 июня в Думе, Лопухин увидел в нем существенные искажения событий. 14 июня он написал министру официальное письмо, в котором повторил рассказанное ранее Витте (21). В письме Лопухин, не показывая существовавшего у него недоверия к Столыпину (22), представил свое видение изложения событий министром как следствие извращения обстоятельств дела его подчиненными. В частности, Лопухин указал, что прокламации, призывавшие к избиению евреев, распространялись в Александровске и после погрома 14 декабря 1905 г. Но основная мысль письма заключалась в поддержке мнения Урусова о том, что министр и его центральный аппарат практически бессильны, полиция и жандармерия, а также ряд сотрудников министерства “считают себя вправе вести самостоятельную политику” вследствие поддержки не только некоторых высших чиновников, но и таких фигур как генерал Трепов. “Только осведомленная прессой Государственная дума в сидах навсегда прекратить систематическое подготовление властями еврейских и иных погромов” — таково было глубокое убеждение Лопухина. Им и объяснял он факт передачи копии рапорта Макарова в газету (23). Урусов и Лопухин попали точно в цель — министр внутренних дел не мог предотвратить или остановить еврейские погромы. Так, 22 июня руководитель группы, командированной в Белосток, член Думы М. П. Араканцев после поездки выступил от имени комиссии с докладом о белостокских событиях. Он сказал, что утром 2 июня Столыпин обещал членам Думы В. Я. Якубсону и М. И. Шефтелю немедленно телеграфировать о принятии “действительных мер” против погрома. Но “особенно многочисленные расстрелы евреев” происходили с 5 часов дня 2го июня до утра 3-го. В этом комиссия увидела существование “тайной власти, для которой власть министра была ничтожной” (24). Член Думы от Гродненской губернии, в состав которой входил Белосток, М. Я. Острогорский заявил о получении телеграммы с сообщением о погроме в ночь с 1 на 2 июня; в 4 часа утра сам послал телеграмму Столыпину и в 11 часов утра был у него. Министр обещал “принять немедленно самые энергичные меры”, сказав, что Острогорский может успокоить своих земляков. Однако вскоре погром “стал бушевать с необыкновенной силой”(25). Известный исследователь истории евреев в России С. М. Дубнов 35-летнюю историю еврейских погромов в царствования Александра III и Николая II делил на три эпохи: первая 1881 — 1882 гг., вторая 1903 — 1906 гг., третья — военные погромы в прифронтовой полосе и изгнание сотен тысяч евреев из западных губерний ( 1914 — 1916 гг. ) (26). Четвертая эпоха уже после свержения царизма — погромы, которые организовывали белые, гайдамаки, петлюровцы, белополяки и Первая конная армия. Дубнов считал 1906 г. конечным годом второй эпохи. Следует уточнить его высказывание. После белостокского погрома 9 июля произошел погром в Нижнем Новгороде, 10 июля в Одессе (27), 27 - 28 августа в Седлеце, в Царстве Польском (28), а в 1907 г. 28 февраля в Елизаветграде Херсонской губернии, 8 12 августа в Одессе (29). Без сомнения Столыпин не желал погромов, однако остановить их как министр внутренних дел, а тогда и председатель Совета министров не сумел. Антисемиты — представители власти не скрывали и даже афишировали легкость, с которой они могли бы прекратить погромы. Например генерал-майор Бессонов ( инициалы установить не удалось — А. М.), начальник охраны второго отдела Киева, куда входили Подол и Старо-киевский участок, где жили преимущественно евреи и располагались богатые еврейские фирмы, во время погрома 18 - 21 октября 1905 г. заявил, будь его воля, “погром окончился бы в полчаса, но евреи приняли слишком большое участие в революционном движении и потому должны поплатиться”. В то же время начальники двух других отделов охраны города старались прекратить погром (30). С ответом на запрос о белостокском погроме Столыпин собирался выступать 10 июля, как он заявил председателю Думы (31). Но 8 июля 1906 г. I Дума была распущена, и министр освободился от, по-видимому, крайне неприятных для него объяснений. 15 мая 151 член Думы в порядке законодательной инициативы внесли предложение об основных законах о гражданском равноправии, где вторая группа предполагаемых законов относилась к ограничениям, обусловленным национальностью и вероисповеданием; речь шла о полной отмене всех ограничений (32). Обсуждение проводилось на нескольких заседаниях при единодушной поддержке выступавших за немногими исключениями. Аналогичное решение требовали принять некоторые ораторы в процессе рассмотрения запроса о погромных воззваниях. В связи с неожиданным для членов Думы ее роспуском проблема не получила логического завершения. После вступления Столыпина на пост председателя Совета министров его первой публичной декларацией была программа правительства, опубликованная 24 августа 1906 г. Предлагаемый перечень мероприятий состоял из двух частей. Одни реформы предполагалось провести в сравнительно короткие сроки, до открытия II Думы, в соответствии с 87 статьей Основных законов, дающей правительству право в периоды “междудумья” представлять законопроекты непосредственно царю. Другие же должны были разрабатываться для внесения в Думу. На втором месте в первой группе стояли “некоторые неотложные мероприятия в смысле гражданского равноправия и свободы вероисповедания”. Далее говорилось, что “в области еврейского вопроса безотлагательно будет рассмотрено, какие ограничения, как вселяющие лишь раздражение и явно отжившие, могут быть отменены немедленно” (33). Правительство, не мешкая, приступило к реализации программы. Товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко вспоминал, что в сентябре — ноябре 1906 г. Совет министров неоднократно собирался для рассмотрения законопроектов, которые должны были приниматься по 87 статье (34). Второй проект касался еврейского вопроса (35). А. С. Тагер предполагал, что инициатором проекта закона, касающегося евреев, был министр финансов В. Н. Коковцов (36). Вероятно, Тагер исходил из письма Коковцову 28 июля 1906 г. директору ПарижскоНидерландского банка Э. Нецлину, где сообщал о принятии в 1904 г. по его инициативе двух законов, снявших некоторые ограничения прав евреев (“Об отмене законов о праве жительства евреев в пятидесятиверстной от западной границы полосе” и “О некоторых изменениях в действующих постановлениях о правах жительства евреев в различных местностях Империи” (37) — А. М.). Продолжая, Коковцов указывал, что в ближайшее время представит в Совет министров предложение об отмене ограничений для евреев по торговле, промыслам, их участию в акционерных предприятиях и отмене Временных правил о евреях от 3 мая 1882 г. (эти правила запрещали евреям вновь селиться вне городов и местечек, приостанавливали совершение купчих крепостей и арендных договоров на недвижимые имущества, находящиеся в сельской местности; указанные меры относились к черте оседлости (38)). Кроме того, Коковцов предполагал предоставить евреям право повсеместного жительства (39). Коковцов говорил Гурко, что не любит евреев и понимает, что они очень опасны. Но принимаемые против них меры не эффективны, ибо евреи всегда смогут обойти законы (40). Подобное высказывание, по-видимому, можно считать побудительным мотивом Коковцова. Когда во второй половине двадцатых — начале тридцатых годов Коковцов писал воспоминания, инициатором проекта он называл не себя, а Столыпина (41). В документе Совета министров, названном “О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев”, отмечалось, что его первоначальную разработку выполнили министерства финансов и внутренних дел. Министр финансов считал единственной возможностью правительства изменять или отменять по 87 статье только временные меры по отношению к евреям; коренные же изменения законов о евреях, “существующих почти полтора столетия”, можно было проводить лишь через Государственную думу и Государственный совет (42). Таким образом, Коковцов отказался от мысли об упразднении черты оседлости. Хотя в теме, поименованной как “еврейская политика” Столыпина, Коковцов не является фигурой первого плана, его вклад в такую “политику” заметен. Кроме того, он в течение всего времени премьерства Столыпина был одним из его ближайших сотрудников. Поэтому целесообразно привести эпизод, более точно характеризующий отношение Коковцова к национальному, а значит и к еврейскому вопросу. А. Я. Аврех указывал, что Коковцова “в помещичье-буржуазном общественном мнении, особенно в кадетско-прогрессивных кругах” считали либералом, ибо он как министр финансов чаще, чем другие министры, общался с буржуазией и должен был считаться с ее интересами. Когда после покушения на Столыпина, но еще до его кончины, Коковцов замещал премьера, либеральная пресса восприняла его назначение как конец столыпинского националистического курса, а партия националистов сильно обеспокоилась (43). 3 или 4 сентября 1911 г. Коковцова посетила группа членов фракции националистов III Думы во главе с П. Н. Балашовым. Тот сказал, что партия националистов взволнована покушением на Столыпина как на человека, слившегося с этой партией и оказывавшего ей покровительство. Партия не доверяет Коковцову и опасается его симпатий “к элементам международного капитала и инородческим”. Коковцов ответил: “Вашей политики угнетения инородцев я не разделяю и служить ей не могу”. Он завершил разговор так: “Оказывайте какое хотите покровительство русскому элементу, будем вместе возвышать его, но преследовать сегодня еврея, завтра армянина, потом поляка, финляндца... в этом нам не по пути” (44). При обсуждении Советом министров законопроекта “О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев”, Гурко выступил против проекта и предложил отказаться от любых притеснений евреев, особенно в черте оседлости. Далее он заявил, что частичное уравнивание их в правах с остальным населением приведет лишь к негативным результатам; не лишая евреев революционных симпатий, такой курс даст им оружие, облегчающее борьбу против правительства. Большинство членов Совета министров высказалось за проект. Столыпин, по словам Гурко, поначалу тоже был за, потом он стал путаться и сбиваться, после чего предложил представить царю стенограмму заседания для утверждения мнения большинства или меньшинства. Совет поддержал это предложение. Подобным ходом Столыпин как бы перекладывал на царя ответственность за принятие решения. Если царь одобрит законопроект, возмутятся правые, в ином случае возникнет негативная реакция евреев. Далее Гурко привел “курьезный” факт — Столыпин был среди меньшинства, хотя сам предложил проект (45). Основные положения законопроекта состояли в следующем. В губерниях черты оседлости евреям разрешалось жить и в сельской местности. Евреи, имеющие право жительства вне черты оседлости, также могли обосноваться в сельской местности. Разрешались торговля, промыслы, участие в акционерных компаниях и приобретение в городских поселениях и ряде поселков недвижимого имущества (46). Таким образом, частично отменялись Временные правила о евреях. Завершался проект “сомнением” в том, следует ли его издавать по 87 статье или внести в Думу нового созыва. Принять решение должен был сам царь (47). В примечании к законопроекту, помещенному в книге “Убийство Столыпина: Свидетельства и документы”, ее составитель А. Серебренников утверждает, что опубликованная формулировка заключения существенно отличалась от первоначально предложенной Советом министров; в ней испрашивалось соизволение царя на проведение закона только по 87 статье (48). В самом начале декабря 1906 г. Столыпин направил законопроект царю на утверждение. При подготовке проекта члены Совета министров, как вспоминал Коковцов, представляли, что Столыпин “не решился бы поднять такой щекотливый вопрос, не справившись заранее со взглядом Государя”, хотя он сам об этом не говорил. У Столыпина был убедительный аргумент — личное близкое знакомство с еврейским вопросом в западном крае, где он прожил много лет. Ссылаясь на такой аргумент, Столыпин доказывал несостоятельность многих ограничений жизненными фактами (49). Скорее всего, Столыпин ожидал положительного решения царя, тем более, что правительственная программа от 24 августа 1906 г. получила “высочайшее одобрение” (50). Если обещанные программой преобразования не будут осуществлены, — было записано в проекте, — доверие общества к правительству поколеблется (51). Однако опыт общения Столыпина с царем показывал — на него нельзя положиться. Даже если премьер убеждал в чем-то царя, в решающий момент тот мог отказаться от принятого решения. Так случилось и на этот раз. 10 декабря Николай II вернул Столыпину журнал Совета министров, где был помещен законопроект, неутвержденным, мотивируя свое решение в письме, в котором говорилось: “Несмотря на самые убедительные доводы, внутренний голос твердит, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала” (52). Ганелин полагает, что резолюция царя на журнале (ее текст неизвестен) соответствовала по содержанию его письму (53). В тот же день Столыпин отправил Николаю II ответное письмо, где указывал: “Исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться полного равноправия”; частичная отмена ограничений дает возможность Государственной думе отложить разрешение проблемы “в полном объеме на долгий срок”; принятие законопроекта успокоит “нереволюционную часть еврейства“ и избавит “законодательство от наслоений, служащих источником злоупотреблений”. Затем Столыпин вновь подчеркнул мысль о царском одобрении правительственного сообщения от 24 августа, а также, что Николай II сам указывал “на неприменимость к жизни многих из действующих законов“ и лишь не желал их изменения без Думы. При полном соблюдении тайны, — продолжал премьер, — слухи о подготовке журнала проникли в общество и прессу, поэтому царь ставил себя в невыгодное положение, ибо Совет министров единогласно высказался за проект (следует напомнить, что Коковцов говорил о его принятии большинством Совета — А. М.). Осталось неясным, хотел ли Столыпин ответственность взять на себя, чтобы не компрометировать Николая II, или хотел не подрывать авторитет Совета министров. Так как о возвращении журнала царем еще никто не знал, Столыпин просил, по крайней мере, переделать “резолютивную часть журнала”, а именно, испрашивать царя не на утверждение им журнала по 87 статье, а на двоякую запись — внести ли вопрос в Думу или разрешить его по 87 статье. В том случае, — завершал письмо премьер, — правительство “в глазах общества не будет казаться окончательно лишенным доверия Вашего Величества, а в настоящее время Вам, Государь, нужно правительство сильное” (54). Николай II не заставил себя долго ждать и уже на следующий день, 11 декабря в письме согласился с предложением Столыпина (55). Практически царь предпочел более краткую резолюцию. “Собственной Его Величества рукой начертано: Внести на рассмотрение Государственной думы”. 15 декабря 1906 г. в Царском Селе. Председатель Совета министров Столыпин” — такая запись сделана на первой странице журнала (56). Столыпин говорил Коковцову, что не ожидал подобного решения, так как ему приходилось делиться мыслями на основании опыта в Западном крае, и Николай II “ни разу не высказал принципиального несогласия”. Однако Столыпин отнесся к решению царя спокойно (57). Гурко писал, что царь взял на себя ответственность за отклонение проекта, спасая от нее правительство. Далее он упоминал о различных версиях, циркулировавших в Санкт-Петербурге относительно законопроекта. По одной из них решение царю подсказал Столыпин. Сам Гурко утверждал, что не знал, какая из версий правильна (58). Чтобы понять, чем действительно руководствовался царь, необходимо хотя бы кратко остановиться на роли черносотенного движения в антисемитской политике в стране. При первом посещении Витте Лопухин высказал убеждение в том, что погромы организуют черносотенные организации и “крайний правительственный антисемитизм” (59), получивший меткую характеристику “зоологического антисемитизма”. Было бы неправильно относить подобную характеристику только к правительственным и чиновным кругам. В еще большей степени она относилась к черносотенцам. Однако, говоря о двух указанных группах, следует оперировать более широким понятием — “зоологический национализм”, направленный против всех “инородцев” в России — евреев, поляков, финнов, армян и др. Но антисемитизм был особенно грубым и резким проявлением зоологического национализма. За делом о погромных прокламациях стоит “группа лиц, составляющих как бы боевую дружину одного из наших самых патриотических собраний”, — утверждал Урусов (60). Непонятно, почему он говорил завуалированно, однако ясно, что речь шла о “Союзе русского народа”, созданном в ноябре 1905 г. в качестве инструмента борьбы с революционным движением. Антисемитизм был необходимым признаком каждого “союзника” (так для краткости называли членов союза). По мнению Лопухина, высказанному им в Витте, правительственный антисемитизм доходил по иерархической лестнице до чиновных низов, затем в виде призывов к избиениям евреев спускался к черносотенцам и реализовывался ими (61). Дубнов антиеврейские законы называл “тихими, легальными, канцелярскими” погромами (62). Но эти же законы были одним из основных факторов существования антисемитизма и возникновения уже кровавых погромов. С момента основания за “Союзом русского народа” стояла имеющая несравненно большее значение организация — “Совет объединенных дворянских обществ”. Она была не политической организацией, а объединением самых правых дворян, целью которого являлась защита их сословных интересов. Программа союза воспроизводила программу совета объединенного дворянства, косвенно руководившего деятельностью союза и других правомонархических организаций и партий. Официально союз не выступал от имени совета, но объединенное дворянство проводило через союз свою политику. С 14 по 18 ноября 1906 г. заседал второй съезд уполномоченных дворянских обществ. В это время просочились слухи о рассмотрении Советом министров вопроса расширения прав евреев. 15 ноября делегат съезда, товарищ председателя союза В. М. Пуришкевич заявил с трибуны съезда, что Главный совет союза обратился к своим отделам с предложением просить императора воздержаться от утверждения законопроекта. “По прошествии 24 часов у ног Его Императорского Величества было 205 телеграмм” с указанной просьбой (63) (в союзе было 205 отделов — А.М.). Резолюция съезда выступала против всяких уступок “еврейским притязаниям”, каждая уступка расценивалась как проявление слабости государственной власти. В резолюции высказывалось требование производить любые изменения законов о евреях только в общем законодательном порядке, но не по 87 статье (64). Известный адвокат, член Думы В. А. Маклаков по поводу упомянутого законопроекта писал, что “при диких формах современного антисемизма (написано в 1942 г. — А. М.) тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым”. В проекте полного равноправия не было, “но евреи так не избалованы, что оценили бы и это”. Говоря о получении царем 205 телеграмм от союзников, Маклаков, ссылаясь на письмо Николая II Столыпину, резюмировал: “Вот источник того внутреннего голоса, который Государя будто бы никогда не обманывал” (65). Наверняка это и была истинная причина отклонения законопроекта царем — Николай II поддержал антисемитов “дорогого” ему “Союза русского народа”. В начале 1907 г. П. А. Тверской, независимый русский и американский журналист, как он сам себя называл, специальный корреспондент агентства “Американ Ассошиэйтод Пресс”, взял интервью у Столыпина. Тверской говорил о еврейских погромах, как уже о хроническом явлении, к которому присоединились другие явления, например, избиения интеллигенции. Он обвинял власть не только в бездействии, но и в их поощрении и указывал на черносотенную агитацию и апатию “в преследовании ее кровавых последствий, несмотря на существование военных положений и полевых судов” (66). О том, что полевые суды не рассматривали дела погромщиков, Тверской, возможно, не знал. Впрочем, далее рассказано о помиловании многих осужденных обычными судами погромщиков. Отвечая Тверскому, Столыпин говорил, что в этой области и он и правительство бессильны вследствие постоянно действующих на них “различных давлений и влияний”. Поэтому он не раздумал об отставке. Затем Столыпин заметил, что ему только остается лавировать. Закончил он, сказав: “Погромы теперь пока прекратились, и пока я у власти, их больше не будет” (67). Если напомнить о двух последних погромах, организованных как раз в 1907 г., то Столыпин не выполнил обещание. Возвращаясь к вопросу о сопротивлении правых сил, на которое натолкнулись первые шаги правительства Столыпина, следует подчеркнуть, что премьер не собирался отступать от реформ. В январе — феврале 1907 г., получив записку крайних правых членов Государственного совета о внутренней политике, Столыпин написал на ней замечание: “Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большой мере недостатки внутреннего уклада... К тому же путь реформ торжественно возвещен, создана Государственная дума и идти назад нельзя. Признанием бессилия власти будет обращение всех сил на полицейские мероприятия”, — закончил премьер (68). Приведенная запись не предназначалась для опубликования и ее нашли в письменном столе после кончины Столыпина. 20 февраля 1907 года была открыта II Дума, а 6 марта на ее заседании председатель совета министров более подробно изложил программу правительства от 24 августа 1906 г. И вновь, несмотря на недавнюю неудачу, обусловленную позицией царя, он, в частности, говорил о шагах предусматривающих облегчение положения евреев: “С целью проведения в жизнь высочайше дарованных узаконений об укреплении начал веротерпимости и свободы совести министерство (т. е. правительство — А. М.) вносит в Государственную думу и Совет ряд законопроектов, определяющих отмену связанных исключительно с исповеданием ограничений” (69). Однако за три с половиной месяца существования II Думы столыпинское правительство не внесло никаких законопроектов по отмене ограничений для евреев. Став во главе Совета министров в разгар революции, Столыпин хотел противопоставить демократическому движению и либеральной Думе активную массовую организацию правого толка и пытался делать ставку на “Союз русского народа”. Например, член Главного совета союза П. Ф. Булацель сообщал о переговорах в сентябре 1906 г. премьера с союзом; видным “союзникам” тот обещал, что, если они составят большинство в Думе, то к изменению основных законов в их духе “вряд ли бы встретилось препятствие” (70). Подобному высказыванию едва ли стоит предавать значение, ибо, как известно, союз был ярым противником и столыпинских реформ и самого существования Думы. Все же это не мешало правительству финансировать союз и его черносотенную прессу; такие факты подтверждал товарищ министра внутренних дел С. Е. Крыжановский (71), тесно сотрудничавший с Пуришкевичем. К представителям власти, являвшимся вдохновителями еврейских погромов, никакие репрессивные меры, как указано ранее, не принимались. Но непосредственных участников погромов, убийств и грабежей приходилось судить и осуждать, что очень не нравилось Николаю II. В беседе с руководителем одесского отдела “Союза русского народа” графом А. И. Коновницыным он говорил, что русские суды относятся к участникам погромов излишне строго. “Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбам дорогого мне “Союза русского народа” (72) (царь был почетным членом союза (73) и носил его значок (74)). Николай II выполнял свое слово и подписывал большинство “всеподаннейших докладов” министра юстиции И. Г. Щегловитова о помиловании осужденных за еврейские погромы, составлявшихся по ходатайствам различных отделов союза (75). Это подтвердил с думской трибуны Пуришкевич, говоривший о многих осужденных “безвинно по голословным доказательствам еврейского кагала. Когда впоследствии монархические организации одна за другой возбуждали ходатайства о помиловании, все они получили полное удовлетворение” (76). Через некоторое время к тому же вернулся член Думы Е. П. Гегечкори, но в совсем противоположном ракурсе: “Г. Щегловитов напрягает все усилия, пользуется всеми находящимися в его руках средствами, чтобы погромщики — “союзники” не понесли заслуженной кары” (77). Витте утверждал, что помилованием царя пользовались “явные убийцы и подстрекатели к убийствам”, и помилование происходило “не без участия Столыпина” (78). Учитывая явную неприязнь Витте к Столыпину, видную во многих главах его “Воспоминаний” (79), можно усомниться в истинности подобного утверждения. Но если в действительности премьер сам и не присоединялся к ходатайствам о помиловании, то наверняка знал о докладах царю министра возглавляемого им правительства. От массовых погромов “союзники” перешли к террористическим актам. 18 июля 1906 г. они убили члена I Думы профессора М. Я. Герценштейна, 29 января 1907 г. покушались на Витте, 14 марта того же года убили редактора газеты “Русские ведомости” Г. Б. Иоллоса, также бывшего члена Думы. Связь с “союзниками” дискредитировала Столыпина. Причиной этого был не только их бандитизм. Они поносили премьера и правительство, не стесняясь в выражениях, несмотря на получаемые деньги. Поэтому отношения Столыпина с союзом летом 1907 г. стали ухудшаться, произошла заминка в выдаче средств. Глава союза А. И. Дубровин попросил начальника Петербургского охранного отделения полковника А. В. Герасимова, близкого сотрудника Столыпина, быть посредником. Он отказался из-за резкой компании, проводимой против премьера газетой Дубровина “Русское знамя”. Глава союза все же уговорил Герасимова и тот убедил Столыпина, который нехотя “распорядился о выдаче 25 тысяч рублей” союзу (80). На следующий день в “Русском знамени” говорилось будто “Столыпин дал эту сумму за то, чтобы Дубровин не печатал известных статей, как бы подкупил его” (81). Премьер стал добиваться смещения Дубровина и в 1910 г. Главный совет союза полностью обновился. Дубровин был вынужден сам уйти и впоследствии создал новую черносотенную организацию — Всероссийский Дубровинский союз русского народа (82). Видный кадетский публицист, член ЦК партии народной свободы В. П. Обнинский, характеризуя Николая II, писал: “Царь не раз говаривал преданному слуге Петру Аркадьевичу: “Отчего Вы не запишитесь в “Союз русского народа” ? Ведь Дубровина теперь там нет”. Затем Обнинский добавлял: “Да, Дубровина — то не было, зато Николай оставался” (83). До своей кончины Столыпин продолжал контактировать с “Союзом русского народа”, но не дубровским, а обновленным, более умеренным (84). 22 мая 1907 г. Столыпин издал циркуляр № 20 по министерству внутренних дел, предложивший Курскому губернатору приостановить “впредь до пересмотра общего вопроса о праве жительства евреев” выселение евреев, поселившихся вне черты оседлости на законном основании, но утратившим по каким-либо причинам это право, а также имеющих семью и “домообзаводство”. Решение дополняли существенные ограничения. Административная власть должна быть уверенной в том, что еврей, оставленный в запрещенной ему местности, “не вреден для общественного порядка и не вызывает неудовольствия” населения. Затем циркуляр предписывал категорически не допускать впредь “незаконного водворения” евреев вне черты оседлости (85). Хотя под действие циркуляра подпадало всего несколько тысяч еврейских семейств, правые фракции III Думы 26 ноября 1908 г. внесли заявление о запросе министру внутренних дел, в котором обвинили его в превышении власти, а также незаконности циркуляра, разосланного по всей России, и нарушении Свода законов. Запрос требовал точного соблюдения действующих законов о евреях и утверждал, что закон нельзя отменить министерским циркуляром (86). По решению Думы заявление было передано в комиссию по запросам (87), но осталось нерассмотренным (88). Однако это не помешало властям отреагировать на запрос массовым выселением евреев в местности черты оседлости. Например, из Киева зимой 1910 г. выслали 1200 еврейских семейств (89). Третьеиюньский переворот стал переломным моментом во внутренней политике Столыпина, в том числе, в еврейском вопросе. “Правительство Столыпина объявило войну русскому еврейству”, — писал Витте (90). Конечно же, утверждение Витте, относившегося к Столыпину с нескрываемой антипатией, не является убедительным доказательством, хотя факты говорят сами за себя. Так, 14 сентября 1907 г. общее собрание членов Киевского губернского отдела “Союза русского народа” потребовали в письме Столыпину очистить Киевский политехникум от “засилия” евреев. Резолюция премьера на полях письма была такой: “Наконец, среди грубой брани и требований, вызванных политиканством и интригой, дождался я от “Союза русского народа” мыслей правдивых и серьезных. Безобразный прием евреев в Киевский политехникум уже обратил на себя мое внимание, и я принял соответствующие меры” (91). Столыпин приказал исключить из политехникума 100 студентов-евреев, выдержавших конкурсные экзамены, а на их места принять русских, получивших меньше баллов (92). 1 ноября 1907 г. была открыта III Дума; 16 ноября Столыпин изложил в ней правительственную декларацию, в которой уже не было ни одного слова об отмене ограничений для евреев (93). До 16 ноября Столыпин более или менее считался со всем, “что было левее того настроения, в котором он сам находился в данный момент. После 16 ноября он считался только с крайними правыми по тем немногим вопросам, по которым с ними расходился”, — писал Тверской (94). Впрочем, изредка председатель Совета министров отступал от жесткого курса, по крайней мере, на словах. Один из всего двух евреев — членов III Думы Л. Н. Нисселович решил внести законодательное предложение об отмене ограничений политических и гражданских прав евреев, предварительно выяснив у лидеров правых фракций, как они отнесутся к передаче подобного предположения в комиссию. Весной 1908 г. Нисселович был на приеме у премьера по поводу полученных из черты оседлости известий о готовящихся там выступлениях “союзников”. Он воспользовался посещением, чтобы сообщить Столыпину ответы лидеров фракций и узнать, как правительство отнесется к указанному предположению. Сами ответы Нисселович не привел, но писал, что глава правительства категорически заявил о безусловном недопущении погромов. И действительно, как отмечено ранее, после 1907 г. в период премьерства Столыпина погромов не было. По главному вопросу он заявил: “Если в самой Думе возникнет законодательное предположение насчет евреев, то правительство пойдет Думе навстречу в отношении улучшения быта и положения еврейской бедноты, как в черте оседлости, так и вне ее” (95). Необходимо подчеркнуть, что Столыпин ушел от ответа на главный вопрос — об отмене ограничений политических и гражданских прав евреев, заменив его частностями. Кроме того, вне черты оседлости еврейской бедноты почти не было. Циркулярами министра народного просвещения от 1 и 6 июля 1887 г. № № 9817 и 10313 были введены процентные нормы лиц иудейского исповедания для средних и высших учебных заведений: в черте оседлости 10% общего количества обучающихся, в столицах 3%, в прочих местностях 5% (96). В 1901 г. они были снижены, соответственно, до 7,2 и 3%. Циркуляр от 7 июня 1903 г. восстановил прежние нормы (97). В 1905 — 1906 г.г. эти нормы во многих местностях перестали соблюдать, чему содействовал циркуляр, предоставлявший руководству учебных заведений право заполнять евреями почему либо не занятые христианами места. В университетах решение принимали советы, пользовавшиеся неразберихой и противоречиями между прежними, не отмененными постановлениями, и новыми, вызванными волной революционных выступлений (98). Практически администрация высших учебных заведений явочным порядком отменила процентные нормы. А. Н. Шварц, назначенный министром народного просвещения в начале 1908 г., отмечал, что томский епископ в письме царю жаловался на полное нарушение процентной нормы в Томске. Николай II передал письмо Столыпину, а тот поставил вопрос на обсуждение Совета министров (99). В результате 16 сентября 1908 г. был утвержден закон “Об установлении процентных норм для приема в учебные заведения лиц иудейского исповедания”, подтвердивший нормы 1887 г. для высших учебных заведений (100), 22 августа 1909 г. — закон “Об условиях приема евреев в средние учебные заведения”, установивший нормы 15% для черты оседлости, 5% для столиц и 10% для прочих местностей (101). Казалось бы, первый из упомянутых законов не ужесточил прежние нормы для высших учебных заведений, а второй — повысил их для средних. Но по сравнению с положением, существовавшим в 1905 - 1906 г.г., это был шаг назад, возмутивший не только евреев, но и либеральную общественность. Витте писал, что “мера эта законодательного характера... Это было новое ограничение евреев и сделано вопреки закону, помимо Государственной думы и Государственного совета” (102). Правительство продолжало идти по пути ограничений, и 11 марта 1911 г. был подписан закон “Об ограничении установленными Высочайше утвержденным 22 августа 1909 года положением Совета Министров процентными нормами допуска евреев к экзаменам в качестве экстернов в предусмотренных в означенном положении учебных заведениях”. Закон распространял на евреев, сдающих экзамены в средних учебных заведениях в качестве экстернов, установленные для этих заведений нормы, но исчисляемые по отношению к общему количеству экстернов (103). Действительный смысл закона состоял в практическом запрещении сдавать евреям экзамены экстерном, ибо у христиан, имеющих право на обучение без всяких ограничений, не было никакой необходимости в экстернате. Поэтому лишились такой возможности и евреи. Сын Столыпина, А. П. Столыпин, писал об отце: “Живя и работая в крае, в котором сказывалось влияние трех народностей — польской, литовской и еврейской, Петр Аркадьевич узнал их сильные и слабые стороны. Широко просвещенный и воспитанный в культурных русских традициях, он привык с уважением относиться к правам инородцев, но огонь национального самосознания разгорелся в нем ярким пламенем” (104). Но панегирик А. П. Столыпина был неоправдан — “огонь национального самосознания” сжег уважение к правам инородцев, если оно и было. Так, в начале 1910 г. Столыпин издал циркуляр, указавший губернаторам, что культурно-просветительные общества инородцев содействуют пробуждению в них “узкого национально-политического самосознания” и “ведут к усугублению начал национальной обособленности и розни” и потому должны считаться “угрожающими общественному спокойствию и безопасности”. Поэтому циркуляр признавал учреждение подобных инородческих обществ (особо были выделены общества украинцев и евреев) недопустимым. Губернаторы также должны были тщательно ознакомиться с деятельностью уже существующих обществ с указанных позиций и в необходимых случаях закрывать их (105). В националистическом духе был разработан законопроект “О применении Положения о земских учереждениях 12 июня 1890 г. к шести губерниям Западного края”. В III Думу он был внесен министром внутренних дел 20 января 1910 г., а 25 января постановлением Думы передан на рассмотрение в комиссию (106). 7 апреля комиссия по местному самоуправлению внесла доклад по этому проекту в общее собрание Думы. 7 мая — в день первого заседания, посвященного обсуждению законопроекта, выступил Столыпин (107). Отстаивая интересы русского населения Западного края (белорусы и украинцы официально причислялись к русским) перед поляками, законопроект одним острием был направлен против евреев — его 6 статья гласила, что евреи не допускаются к участию в выборах и не могут быть избраны в земские гласные. При этом, как обычно, было включено якобы смягчающее условие — “впредь до пересмотра действующих о них (о евреях — А. М.) узакононений” (108). Дума приняла закон 1 июня 1910 г. (109), но 4 марта 1911 г. Государственный совет отклонил основную статью законопроекта. Тогда по инициативе Столыпина царь распустил обе палаты с 12 по 14 марта, чтобы провести законопроект по 87 статье, и 14 марта утвердил закон (110). 15 марта фракция “Союза 17 октября”, группа прогрессистов, социал-демократическая фракция и фракция народной свободы внесли заявление о запросах (каждая отдельно) председателю Совета министров о нарушении им основных законов в связи с проведением закона о западном земстве по 87 статье (111)111. 20 марта, в весьма напряженные для Столыпина дни, к нему обратился с письмом Балашев. Тагер полагал, что автором письма был глава думской фракции националистов (112). Однако лидером фракции был Петр Николаевич Балашов, а в письме, опубликованном в “Красном архиве”, указана фамилия Балашев, без инициалов (113). Подлинным автором письма являлся Иван Петрович Балашев, издавший еще в 1906 г. брошюру, которая по названию посвящалась вопросу изменения закона о выборах в Думу, но основным в ней были грубые и резкие антисемитские выпады (114). В письме автор призывал Столыпина не уходить со своего поста, пока он не выполнит “национальную” программу. Он предлагал “явиться на думский запрос с роспуском в кармане”. “Сделайте это предстоящим летом и в октябре соберите “обновленную” Думу. Тем временем введите на основании 87 статьи окончательно принцип черты оседлости для евреев и полное устранение их от школы, суда и печати” (115). Эта программа Балашева полностью совпадала со взглядами националистов, утверждавших, что равноправие евреев недопустимо (116). Крайние правые и националисты ужесточали политику антисемизма. Например, на заседании Постоянного совета объединенных дворянских обществ 27 марта в резолюцию по еврейскому вопросу были включены категорические требования изгнания евреев из армии, строгого исполнения всех ограничений, существующих для евреев, а также была указана желательность их недопущения к законодательной, административной и педагогической деятельности и полного разобщения русской и вообще христианской учащейся молодежи от еврейской (117). В 1910 г. Совет министров разработал законопроект “О преобразовании управления городов в губерниях Царства Польского”, который должен был распространить Городовое положение 1892 г. на Западный край (1118). Но принципиально новым по сравнению с указанным положением были национальные курии и нормы представительства от них. Здесь еще в более сильном националистическом духе продолжалась та же линия, что и в законопроекте о западном земстве в отношении евреев . Предлагалось в городах и городских поселениях, где жили более 50% евреев, избирать им не более 20% от общего количества гласных; если евреи составляли менее 50% жителей, они смогли бы избирать не более 10% ; в тех городах и местечках, где евреев было меньше 10% , количество гласных от еврейской курии определялось бы процентным отношением числа евреев ко всему населению; и, наконец, при 2% евреев, они имели бы право избирать всего двух гласных. Обсуждение законопроекта в Думе происходило уже после смерти Столыпина (119). С последней публичной речью он выступил 27 апреля 1911 г. в Думе, отвечая на запросы четырех фракций по закону о западном земстве. Председатель Совета министров, в частности сказал: “В законе проводятся принципы не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охрана прав коренного русского населения” (120). Таков был его комментарий к 6 статье закона. Националисты и крайние правые одобрили эту статью. Например, член Думы Пуришкевич заявил, что основными положениями государственного национализма должны быть следующие: русский народ является народом хозяином; евреям строжайше запрещается занимать в стране какие-либо должности в области государственного управления (121). Обнаружение 20 марта в Киеве убитым подростка А. Ющинского, ставшее отправным пунктом “дела Бейлиса”, вызвало дикую антисемитскую истерию в стране. Киевское охранное отделение получило через директора Департамента полиции приказ Столыпина “собрать подробные сведения по делу об убийстве мальчика Ющинского и сообщить подробно о причинах этого убийства и о виновных в нем” (122). Этот приказ можно расценивать двояко. Газета “Русское знамя” писала, что “убитый премьер был единственным ни за какие деньги не соглашавшимся прикрыть дело Юшинского” (123). С другой стороны, Столыпин к его чести не поддался общей истерии, не верил в ритуальное убийство и потому желал, чтобы были найдены настоящие преступники. Упомянутый приказ, по-видимому, явился последним актом “еврейской политики” Столыпина. Как же оценить такую его “политику”? Столыпин был представителем своей эпохи и того строя жизни, в рамках которого он сформировался. И его попытки провести какие-то законодательные облегчения для евреев определялись не душевной склонностью, а рассудком, сознанием, что существующее положение евреев вредно для России. Однако давление на него правых кругов оказалось сильнее. Подытоживая сказанное о различных аспектах “еврейской политики” Столыпина, можно утверждать, что она никакого улучшения жизни евреям не принесла, а в ряде моментов ужесточила антиеврейские законы. |
|
|
|
 29.3.2010, 15:11 29.3.2010, 15:11
Сообщение
#79
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
Две трети жизни прожил в Ростове, а этих вещей не знал. И места-то все - до боли знакомые...
Мовшович Е. К 90-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ЕВРЕЙСКОГО ПОГРОМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Трехдневный еврейский погром 18-20 октября 1905 г. в Ростове-на-Дону, являвшимся тогда градоначальством, был одних из трех самых больших в России.(1) Ныне мало кто помнит о трагических событиях 1905 г., об этой местной репетиции холокоста, повторение которой - мечта теперешних последователей черносотенцев из Союза русского народа. В нравственном отношении погром был трагедией российских евреев, а в политическом аспекте он позволял установить подлинное соответствие между царским манифестом от 17 октября 1905 г., декларировавшим гражданские свободы, и реальной политикой правительства России. Оно в тот момент стремилось погромами евреев, организованными местными властями сразу после обнародования манифеста в 17 губернских городах, 3 градоначальствах, 44 уездных городах и множестве других населенных пунктов России, (2) запугать революционное рабочее движение, добивавшееся, в первую очередь, соблюдения элементарных демократических прав.(3) Сохранились воспоминания свидетелей событий 1905 года в Ростове-на-Дону, в том числе погрома, (4) позволяющие воссоздать картину происходившего тогда. Октябрьская политическая стачка 1905 г. в России началась в Ростове-на-Дону забастовкой в Главных мастерских Владикавказской железной дороги 13 октября. На следующий день она стала общегородской, а затем охватила другие города Донского края и всю Владикавказскую дорогу. Последовали аресты руководителей и активистов революционных и оппозиционных организаций и подозреваемых, (5) накалившие политическую обстановку в городе. Возрастающее политическое напряжение во всей стране вынудило Николая II издать 17 октября манифест, "дарующий" гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов, объявляющий частичную амнистию политическим заключенным и создание эаконодательной думы. Когда утром 18 октября в Ростове-на-Дону стало известно содержание манифеста, социал-демократы организовали около 12 часов дня многочисленную манифестацию рабочих и учащейся молодежи от железнодорожного вокзала по главной улице Ростова Большой Садовой.(6). Как вспоминал И.Гущин, (7) "ростовчане никогда не видели такой грандиозной картины". Демонстрация завершилась на Острожной площади между тюрьмой, трамвайным депо и восточным продолжением Скобелевской (ныне Красноармейской) улицы. Сюда с разных сторон влились колонии ростовчан и нахичеванцев. (8) Здесь состоялся грандиозный митинг (участвовало около 10 тысяч человек) с требованием свободы политическим заключенным, обещанной манифестом, но не предоставленной властями Ростова-на-Дону. На митинге выступили кадеты, социал-демократы, в том числе некоторые из тех 23 арестованных лишь по подозрению в оппозиционной деятельности, которые были освобождены во время митинга, а ещё 24 человека были освобождены 23 октября по указу "об амнистии".(9) Пока происходила манифестация и шел митинг, в городе собирались черносотенцы, вдохновителями которых были доктор Дубровин, городской голова Хмельницкий, гласные городской думы Севастьянов (руководитель ростовских черносотенцев), Кирьянов, Чириков и др. По городу был пущен слух, что "жиды напали на русских, избили их, а портрет Николая изорвали и выбросили". Напоив допьяна членов Союза русского народа и хулиганье, опытная рука направляла их против революционеров и евреев, собирала их у Ново-Покровской церкви (находилась на месте нынешнего Кировского сквера). Здесь скопилась большая толпа черносотенцев с национальными флагами и портретами царя.(10) По воспоминаниям П.Безруких (в то время 13-летнего подростка, из любопытства принявшего участие в демонстрации и митинге), "площадь едва-едва вмещала демонстрантов, которые в течение дня непрерывно подходили с разных концов города, Лишь к вечеру постепенно толпа стала редеть".(11). В сумерках, когда большая часть участников митинга разошлась и оставалось лишь 200-400 человек, толпа черносотенцев (включавшая переодетых жандармов), подошедшая с запада (за ними двигались верховые донские казаки), стала забрасывать митингующих камнями и избивать. Для защиты из рядов митингующих раздались отдельные револьверные выстрелы.(12) Другие, менее осведомленные участники митинга думали, что выстрел (им показалось, что был только один выстрел) произвел провокатор.(13) Охрану тюрьмы несли солдаты Феодосийского полка. Когда им дали команду открыть огонь по обороняющимся участникам митинга, они, будучи распропагандированными, стали стрелять поверх голов.(14) Тогда против митингующих бросили верховых донских казаков, находившихся за воротами тюрьмы и позади толпы черносотенцев. Они дали залпы из винтовок. По свидетельству П.Безруких, "казаки, по-видимому, только этого и ждали. Сразу же рванули поводья лошадей и, врезавшись в толпу, пустили в ход нагайки. А нагайки толстые, ременные, с вплетенной внутри проволокой, так что после сильного удара по спине кожа лопается. Вслед за казаками оттуда же с Богатянского (ныне Кировского - Е.М.) переулка хлынула толпа черносотенцев и нанятых ими хулиганов, которые стали засыпать бегущих с площади рабочих градом камней. Некоторые из пострадавших рассказывали после, что черносотенцы" били их кольями, железными и резиновыми палками. Получив сильный удар камнем в плечо, я бросился бежать...".(15) П.Иванов вспоминал, что "зверскому избиению и истязаниям подверглась молодая работница Клара Рейзман. Избитой, окровавленной, ей воткнули в рот древко красного знамени, с которым она пришла".(16) Всего было убито, кроме неё, 10 человек, многие были ранены. У меня в памяти сохранился яркий образ картины, экспонировавшейся до Великой Отечественной войны в музее революции Ростова н/Д, который располагался в здании Ротонды в городском саду и сгорел в 1942 г. вместе со всеми экспонатами. На картине была изображена лежащая на мостовой, но полуприподнявшаяся девушка с залитым кровью и искаженным гримасой боли лицом, которую бьют нагайками всадники в казачьей форме. Это была сцена убийства молодой социал-демократки Клары Рейзман (ей, кажется, не было и 20 лет), знаменосца демонстрации и митинга 18 октября. Видимо, эта картина запомнилась мне потому, что моя мама Фаня Григорьевна Минкелевич (1902-1985 гг.) была двоюродной сестрой К.Г.Рейзман, хотя и была намного моложе ее, не раз приводила меня в музей, чтобы напомнить мне о тех событиях. Как свидетельствовал Красюков, участники нападения на митингующих кричали: "Бей жидов! Бей демонстрантов!". (17) По воспоминаниям А.Т.Водолазского, когда поле битвы было очищено, озверелая и опьяненная человеческой кровью толпа черносотенцев бросилась к Покровскону базару (находился рядом с Ново-Покровской церковью на территории теперешнего Кировского сквера - Е.М.), где и стала грабить еврейские лавчонки. Часам к 10 вечера Покровский базар представлял пылающий костер. Отсюда погром распространился на весь город".(18) От Покровского базара черносотенцы двинулись громить Новый Базар (располагался на песте нынешнего здания областной администрации) и Московскую улицу. Вечером был подожен дом Хазизовой на Большой Садовой.(19) По словам участников событий, (20) магазины громили по определенному плану группы по 10-15 человек во главе с переодетыми жандармами и полицейскими. Сначала громили часовые и ювелирные магазины, затем готового платья, обувные и мануфактурные, потом мебельные, посудные н музыкальные. Некоторые магазины поджигали. Как вспоминал П.Иванов, "в лучшем музыкальном магазине Адлера (находился на углу Таганрогского, ныне Буденновского проспекта и Темерницкой улицы - Е.М.) разыгрался пьяный разгул. В дикой погромном экстазе верзила береговой рабочий-крючник вскочил на концертный рояль и стал топать сапогами по клавишам. Какофония получилась ужасная. Звон стекол, треск отламываемых ножек, крики: "ух", "ах", "бей", свист мальчишек, хохот толпы... И по праздничному улыбались рожи бородачей, верховых казаков, охранявших погромщиков. Вот медленно сквозь широкое окно просовывают со второго этажа пианино без ножек. Ребята стараются, красные от усилия, надрываются криками и протаскивают тяжелый инструмент. Перевернувшись в воздухе, он грохнул о камни тротуара и эастонал, словно раненное животное, на мгновение юсе притихло... Замерло... А потом с новой удесятеренной силой вспыхнула вакханалия бессмысленного разрушения. Летели из окон гитары, мандолины, скрипки и, ударяясь о камни, разлетались в щепки. От зарева пожаров ночью на улице было светло, как днем. Евреи прятались в подвалах, чердаках, у сердобольных русских, а лава погромщиков катилась дальше, сталкиваясь с идущими из переулков толпами, образуя на мгновение бушующий водоворот, кружилась на одной месте и вдруг мчалась по измененному направлению". (21) П.С.Варенберг (22) рассказывал, что когда утром 19 октября начался поголовный еврейский погром, городской полицмейстер Прокопович (переведенный из Владикавказа титулярный советник - Е.М.) бросил против немногочисленных еврейско-русских дружин и групп самообороны конных казаков, после чего под их охраной погром возобновлялся. Полицмейстер, "сидя в фаэтоне с револьвером в руках, кричал: "Жиды, сдавайтесь сию минуту, иначе всех вас сейчас перестреляем!" По свидетельству очевидца, "погром вела толпа во главе с вожаком с портретом Николая II, певшая "Боже, царя храни". (23) Как вспоминал П.Иванов, (24) "зажиточные мещане и не брезгливые интеллигенты не принимали участия в погроме, но охотно за бесценок скупали награбленное у бандитов". Во время погрома 19 октября был полностью сожжен Новый Базар и значительная часть Московской улицы. В тот же день состоялось экстренное заседание городской думы, от участников которого требовали принятия решительных мер к прекращению погромов. По воспоминаниям С.М.Гурвича, 26 "дума решила только пойти уговаривать громил прекратить свою "работу". С соборным протоиреем и с хоругвями из ближайших церквей гласные думы направились на соборную площадь и, ставши на колени, просили погромщиков прекратить грабежи. С соборной площади процессия направилась по другим улицам, по которым шёл погром. "Грабители” - сообщила "Донская речь”, - с недоумением посматривали на священника, на время приутихали, а по удалении процессии тут же принимались за начатое дело". На третий день, 20 октября, "погром достиг таких размеров, что буржуазия просила рабочих организовать самооборону. Однако силы оказались неравными, казаки бросились на нас... Когда всё было разбито и разграблено, когда опасность стала угрожать и самой власти, тогда только власть приняла меры к прекращению погрома".27. П.Иванов тоже вспоминал, что "натешившись вдоволь, достаточно напугавши и разграбивши евреев, высшая администрация дала сигнал "довольно". И погром моментально утих”.28. Как уже упоминалось, известно много данных о том, что как и во многих других местах России, в Ростове-на-Дону погром был спланирован, подготовлен и организован властями, во главе которых стоял назначенный в апреле 1904 г. первый ростовский градоначальник генерал-майор граф Коцебу барон Пиллар фон Пильхау (сын Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Пауля Отто фон Коцебу). Слухи о предстоящем еврейском погроме распространились в Ростове-на-Дону задолго ещё до 18 октября.29. В письме председателю Совета министров России С.Ю.Витте его сторонник один из гласных Нахичеванской думы так описал события 18-20 октября: "В действиях толпы замечалась планомерность. Она вышла с иконами, национальными флагами и портретами государя и, кощунствуя над этими святынями для сердца русского человека, остановилась у предназначенных к разгрому магазинов и при криках "шапки долой!" и "ура!" помогала громилам и ворам разбивать и расхищать магазины". (30) Погром был направлен против евреев, составлявших небольшую часть городского населения (менее 10%) и не имевших возможности защитить себя, чтобы запугать революционно настроенных преимущественно русских рабочих. По воспоминаниям И.Гущина, "рабочие поняли подоплеку погромов и поэтому с первых же дней стали на защиту избиваемых евреев”.(31) По жандармским сведениям, только в больницах было зарегистрировано до 40 убитых и до 160 раненных, было разграблено 514 еврейских лавок, 2 паровые мельницы, 5 угольных складов, 8 частных квартир, поджогов было 25, от них сгорело 311 строений.(32) По донесению германского консула в Ростове-на-Дону, сведения из которого были опубликованы членом Государственной думы России В.П.Обнинским, (33) погибло 176 человек и около 500 было ранено. Для сравнения можно указать, что во время октябрьских погромов 1905 г. во всей России погибло 936 человек и было ранено 1918 человек.(<34) Сейчас, когда многие всерьез рассматривают последнего русского монарха Николая II в качестве святого (они считают, что его убийство без суда и следствия оправдывает его предшествующую деятельность, за которую его после расстрела рабочих 9 января 1905 г. на Дворцовой площади Петербурга называли "Николаем кровавым"), представляет интерес его отношение к еврейским погромам в октябре 1905 г. в Ростове-на-Дону, оставшееся неизвестным обществу. М.С.Гурвич (35) цитирует свидетельство исключительно информированного действительного статского советника (разжалован в 1909 г. за разоблачение провокатора Азефа) директора департамента полиции Министерства внутренних дел России (1903-1905 гг.) А.А.Лопухина (36) о рассказе генерал-майора Д.В.Драчевского, назначенного в начале 1906г. градоначальником Ростова-на-Дону (вместо графа Коцебу, освобожденного царем за то, что не с смог предупредить восстание рабочих против правительства) и удостоенного по этому поводу представлению Николаю II, о словах царя: "У вас там и в Ростове, и в Нахичевани очень жидов много! " На что генерал доложил, что их много погибло во время подавления революционного восстания (имеются в виду бои на Темернике в декабре 1905г.- Е.М.) и затем во время погрома. На что его величество ответил: "Нет! Я ожидал, что их погибнет гораздо больше!" В заключение стоит вспомнить, что старший брат Клары Рейзман - известный социал-демократ (большевик) по кличке "Пролетарий", член Донкома РСДРП и председатель Центрального оргбюро союза железнодорожников Владикавказской железной дороги (слесарь Главных мастерских дороги) Соломон Гейнихов (Генрихович) Рейзман, отсутствовавший в Ростове-на-Дону в октябре 1905 г., не надолго пережил зверски убитую сестру. За активное участие в вооруженном восстании в декабре 1905 г. в Ростове-на-Дону он был в феврале 1906 г. арестован и выездной сессией Одесского военно-окружного суда (заседала в казармах Феодосийского полка в Ростове-на-Дону) приговорен 17 декабря 1906 г. к 5 годам 4 месяцам каторги. В каторжной тюрьме в Ростове-на-Дону за протесты против нарушений прав заключенных и издевательств над ними его постоянно избивали, держали в кандалах, бросали в холодный и сырой карцер. В результате совершенно здоровый молодой человек умер в тюрьме 9 февраля 1907 г. от воспаления легких, будучи лишен какой-либо врачебной помощи, в возрасте 23 лет. (37) К сожалению, на старом двухэтажном доме № 145 по Пушкинской улице (против здания общежития бывшей Высшей партийной школы) в Ростове-на-Дону, в котором жила семья Рейзманов, не сохранилась когда-то установленная мемориальная доска, как и в сквере имени Первой Конной Армии (неподалеку от места гибели жертв разгона митинга в октябре 1905 г.), остается надеяться, что когда-нибудь, может быть к столетнему "юбилею" будет установлена мемориальная доска в память жертв еврейского погрома 1905 г. в Ростове-на-Дону. |
|
|
|
 31.3.2010, 1:30 31.3.2010, 1:30
Сообщение
#80
|
|
 Активный участник    Группа: Переводчики Сообщений: 1 745 Регистрация: 19.10.2009 Из: Oakville, ON Пользователь №: 413 |
ЖЕНЩИНЫ В МАХНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ Д.В. Дробышевский В Гражданской войне принимали участие около 70 тыс. женщин[1]. Они оказались в армиях всех противоборствующих сторон, и в этом Ц характерный показатель раскола общества. О количестве женщин в махновских формированиях достоверно не известно; это медсестры, прачки, поварихи, интеллигентки, занимавшиеся культурно-просветительской работой, командиры боевых отрядов и, наконец, жены командного состава и рядовых повстанцев. По социальному составу преимущественно крестьянки, батрачки, работницы и интеллигентки, проникнутые идеями анархизма. В отличие от Красной армии, где женщины могли быть мобилизованы на военную службу[2], в махновскую армию они попадали в основном по доброй воле (не считая пленниц). Лишь в ноябре 1919 г, когда «аппарат управления оказался в процессе эпидемии тифа настолько ничтожным, что приходилось мобилизовывать не только гражданский медперсонал, но и местное население, главным образом женщин, не связанных собственной семьей»[3]. Одни считали нужным находиться в Повстанческой армии по идейным соображениям, другие имели определенный интерес (прежде всего материального характера) или были склонны к авантюрам, третьи просто представляли категорию людей с психической патологией. Самая известная женщина в махновском движении Галина Андреевна Кузьменко, жена Н.И. Махно. Но помимо нее в движении приняло участие много женщин, которые наряду с мужчинами брались за оружие и шли в бой. Одной из таких воительниц была Маруся Никифорова. Мария Григорьевна Никифорова (псевдонимы: «Маруся», «Маруська», «Н.») (приблизительно 1883 1919), известный деятель анархистского движения, в годы Гражданской войны командовала «Вольной боевой дружиной», действовавшей на юге России самостоятельно и в составе Повстанческой армии Махно. Дочь офицера, она порвала с родителями, примкнула к террористам-эсерам, а затем к анархистам. В 1905 Ц 1907 гг. участвовала в «эксах», диверсиях и покушениях на местных чиновников в Александровском уезде. В 1908 г. была приговорена к смертной казни, но по юности и за принадлежность к женскому полу получила 20 лет каторги. Ей удалось бежать (в числе 13 политкаторжанок) и с 1909 по 1917 гг. она жила в США и Европе. В Париже она оканчила офицерскую школу и стала первой эмигранткой-офицером). В 1917 г. Никифорова возвратилась в родные места, создала ряд черногвардейских отрядов. В сентябре она попала в Гуляй-поле, где зарекомендовала себя еще большим радикалом, чем Махно. «Маруся» действовала со своими повстанцами стихийно и бесконтрольно. В мае 1918 г. вместе с войсками Советской Украины ее отряд отступил через Ростов Великокняжескую в Царицын. Ее повстанцы повсюду требовали от советских властей продовольствие, но выполнять боевые приказы отказывались. Кончилось тем, что в сентябре, уже в Царицыне, она была арестована по решению Саратовского Совета «за противоправные действия», отстранена от командования «Вольной Боевой дружиной», вывезена в Москву и заключена в Бутырскую тюрьму. В результате проведенного дознания она была отдана под суд ревтрибунала. При этом до начала суда выпускалась на свободу и участвовала в работе первого Всероссийского съезда анархистов-коммунистов[4]. Ее «единоверец» анархист М. Чуднов, видевший ее летом 1918 г., описывает Никифорову так: «Ёто была женщина лет тридцати двух или тридцати пяти, с преждевременно состарившимся лицом, в котором было что-то от скопца или гермафродита»[5]. А комиссар М. Киселев вспоминал: «Ей около тридцати худенькая с изможденным, испитым лицом, производит впечатление старой, засидевшейся курсистки»[6]. Судебное заседание состоялось 21 Ц 23 января 1919 г. Никифорова была признана виновной «в дискредитировании Советской власти своими поступками и действиями ее отряда в некоторых случаях (реквизиция продуктов, частных магазинов и т. п., в неподчинении Советам на местах в сфере военных действий)». Приговор суда Никифоровой удалось обжаловать. Были приняты во внимание боевые заслуги ее отряда в борьбе против немцев и контрреволюции, и она была выпущена на поруки по ходатайству члена ЦИК А.А. Карелина и командующего советскими войсками на Украине В.А. Антонова-Овсеенко. И уже в мае 1919 г. она была допущена к командованию своим отрядом. Прибыв в район махновского движения, она произвела неблагоприятное впечатление на повстанцев, когда попыталась возмутить их докладом о репрессиях большевиков, то есть о ее осуждении на 6 месяцев условно. Махно по этому поводу заявил: «Если Никифорову судили коммунисты, то значит она заслужила этого»[7]. А на митинге 1 мая Махно собственноручно стащил Никифорову с трибуны, обвинявшую большевиков в предательстве революции[8]. Махно отстранил Никифорову от ведения боевых операций и назначил заведовать детсадами и школами в Гуляй-поле[9]. Но в кипучей натуре «Маруси», видимо, не нашлось места материнским инстинктам и воспитательным навыкам. Вскоре «Маруся» с отрядом Казимира Ковалевича (махновские контрразведчики я. Глагзон и Х. Цинципер, бойцы Петр Шестерин, Александр Попов, Михаил Тямин, Михаил Гречаников и анархистка Любовь Черная[10]) направилась в Москву для проведения террористических актов против большевистского руководства. Но добравшись до Харькова, она повернула в тыл деникинских войск, где через 2 3 месяца вместе с анархистом Витольдом Бжостеком была схвачена и повешена в октябре 1919 г. в Севастополе[11]. В. Савченко пришел к заключению: Никифорова Ц человек «шизоидно-истероидного типа, чье состояние осложнялось, очевидно, травмами головы»[12]. Он счел ее «авантюристкой во французском понимании этого слова», безрассудно преданной анархистской идее, шедшей на безумства ради ее воплощения[13]. В 1920 г. в Повстанческой армии Махно появилась новая «Маруся» («тетка Маруся» или «Черная Маруся»), которая командовала махновским конным полком около года. Полк совершал рейды по тылам красных, действовал на Полтавщине, в районе Александровска, на Черниговщине. Фамилию этой «Маруси» история не сохранила, но ее часто путают с М.Г. Никифоровой[14]. Отряд ее действовал совместно с отрядами махновских командиров, сильно досаждая красноармейским частям вплоть до июля 1921 г.[15] Известна и другая женщина-командир Евдокия Феодосьевна Белаш-Дацюк, возглавлявшая отряд повстанцев, действовавший в 1921 1922 гг. на территории Донецкой губернии[16]. Немаловажную роль в махновском движении играли «анархистки-интеллигентки»; имена некоторых из них еще при жизни стали легендой. Прежде всего следует упомянуть об Ольге Ильиничне Таратута (урожденная Рувинская; настоящие имя и отчество Ёлька Гольда Ёльева) (1876 после 1938) известная российская анархистка, участница нашумевшей «либмановской» акции 1905 г. Учительница, бывшая политкаторжанка (суммарно была приговорена к 21 году каторжных работ). В ноябре 1920 г. Ц представитель Революционно-повстанческой армии Украины (махновцев) в Харькове при штабе ёжного фронта, член секретариата Харьковской конфедерации «Набат». Была арестована в конце ноября 1920 г. в ходе операции по ликвидации махновщины[17]. П. Аршинов в книге «История махновского движения» упоминает о некой Елене Келлер Ц секретаре Культурно-просветительского отдела ВРС армии. До 1917 г. она участвовала в рабочем движении в Америке, в организации Конфедерации «Набат»[18]. Часто женщины являлись корреспондентами махновских печатных изданий. Например, К. Невская Ц член Культурно-просветительского отдела и корреспондент печатного органа революционных повстанцев (махновцев) Бердянского района «Вольный Бердянск»[19]. Житель Екатеринослава М. Гутмана, видевший занятие повстанцами города во второй половине 1919 г., описал их: «ЕНа каждой тачанке сидело 10 - 12 вооруженных ружьями крестьян. Среди них немало и женщин, пожелавших последовать за мужьями в поход иЕ пограбить городЕПрогарцевали по городу и несколько амазонок с черными, развевающимися до крупов лошадей вуалями: это были несколько анархисток-интеллигенток, примкнувших к армии Махно»[20]. В конце сентября 1919 г. эти «амазонки с черными вуалями» уже «показали» себя. Один из идеологов махновщины В.М. Волин описал суд над деревенским священником, который выдал белогвардейцам 40 человек, сочувствовавших повстанцам:«На коленях священник подполз к молодой анархистке из секции пропаганды и, поцеловав ей платье, взмолился: Ц Сестрица, заступись за меня, я невиновен, Спаси меня, сестрица Ц А что я могу сделать для тебя? Ц ответила она. - Если ты невиновен - защищайсяЕ ,Эти люди - не дикие звери. Если ты невиновен, никто не причинит тебе зла. Но если виноват, то что я могу сделать? Какой-то повстанец на коне въехал во двор и, сквозь толпу пробравшись к попу, принялся хлестать его плеткой, при каждом ударе приговаривая: - Не будешь обманывать народ! Не будешь обманывать народ!»[21]. Через некоторое время священник был расстрелян[22]. Об отношении махновцев к женщинам, оказавшимся в рядах армии, можно узнать из воспоминаний участников движения. Начальник штаба Повстанческой армии В.Ф. Белаш отмечает, что рядом приказов по армии «физическое насилие над женщиной» каралось смертью[23]. Г. Кузьменко в своем дневнике описывает, как сестры милосердия из гуляй-польского лазарета просили «хлопцев» взять их с собой и те им не отказали. Вероятно, по каким-то причинам их больше прельщала работа на поле боя, чем в тылу. Мотивация же повстанцев может быть объяснена потребностью быть рядом с женщиной, стремлением быть отмеченным ею среди других мужчин[24]. Как и в русской армии, авторитет сестер милосердия среди «хлопцев» был высоким. Так, 12 октября 1919 г. при занятии Бердянска махновскими частями 2-го Азовского корпуса отличилась «сестра милосердия Новоспасовского полка тов. Митранова»: «находясь все время в передовой цепи и будучи ранена, не отставала и с громким криком «вперед» приближалась к городу, пока не была вторично ранена, но и тогда без посторонней помощи вошла в город»[25]. А белый офицер А.В. Бипецкого, побывавший в плену у махновцев в конце 1919 г., вынес о махновских «сестрах милосердия» куда более прозаические впечатления: «не что иное, как сельские гулящие девки, но, по-видимому побывавшие в городе и старавшиеся во всем подражать господам, начиная с нарядов и кончая языком. (Говорили они на каком-то странном диалекте: половина слов была украинских и половина - русских, причем скверного произношения; т[ак], например, они говорили: «И где вы идете?»). К ним днем и ночью приходили их поклонники, и нередко в комнате из-за этих особ происходили драки и ссоры между соперниками»[26]. Запомнились они и большевику В. Мирошевскому: «В «армии» Махно было довольно много женщин, именовавших себя «сестрами милосердия», но они не имели ни малейшего представления об уходе за ранеными и больными. Нужно, впрочем, отдать им справедливость: в бою большинство из них шло в передовой цепи, Ц часто без оружия, Ц захваченные общим стихийным порывом. Многие из них и погибали в боях рядом с «братишками»-повстанцами»[27]. Белаш вспоминает то же: «В колоннах было много женщин - сестер милосердия и числящихся рядовыми бойцами, охваченных общим революционным порывом. Настроение у всех необыкновенно боевое»[28]. Однако исполнение ими их обязанностей нередко страдало от такого «революционного порыва». Неказистая махновская частушка характеризует это так: ЕИ сестрички-молодцы Вино распивают, Зато раненые наши Без перевязки страдают[29] Наконец, немало женщин работало в разведке и контрразведке. Лев Задов, руководивший той и другой, активно использовал их. Так, агентом была и некая Тина - телефонистка села Большая Михайловка Александровского уезда (жена Махно с октября 1918 г. по март 1919 г.), беспартийная[30]. Разведчицы обыкновенно действовали под видом «обиженных женщин - вдов и сирот, ищущих защиты и правого судаФ»[31]. В своих показаниях брат Льва Задова Даниил пояснял: «Разведка состояла из мальчиков-подростков, 2 стариков-крестьян и 4 - 5 женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Работала по следующему принципу. На подводу, запряженную одной лошадью садилась женщина и один подросток, которые уезжали в тыл красных частей, с которыми махновцы вели тогда борьбу, и устанавливали месторасположение, количество и вооружение и по возвращении докладывали. Таких подвод посылалось 4 и таким образом о расположении Красной Армии было известно приблизительно на 50 Ц 60 километров в радиусе»[32]. Конечно, «феминизация» махновской армии не была масштабной. И все же имела свои причины: демографические изменения в обществе, девальвация ценности семейно-брачных отношений, эмансипация («долой кухонное рабство!»), безработица, замена женщинами мужчин в определенных профессиях, местно-патриотические и революционные чувства. Мотивацией для подобного поведения служили: местный патриотизм («защищать родные хаты»), анархистские идеи (в том числе равноправие женщин и мужчин), материальная заинтересованность, устройство личной жизни и стремление помочь женским уходом раненым и больным повстанцам. http://www.nivestnik.ru/2007_1/015.shtml |
|
|
|
 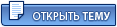 |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2013, 11:58 |